Пионер 1988-04, страница 47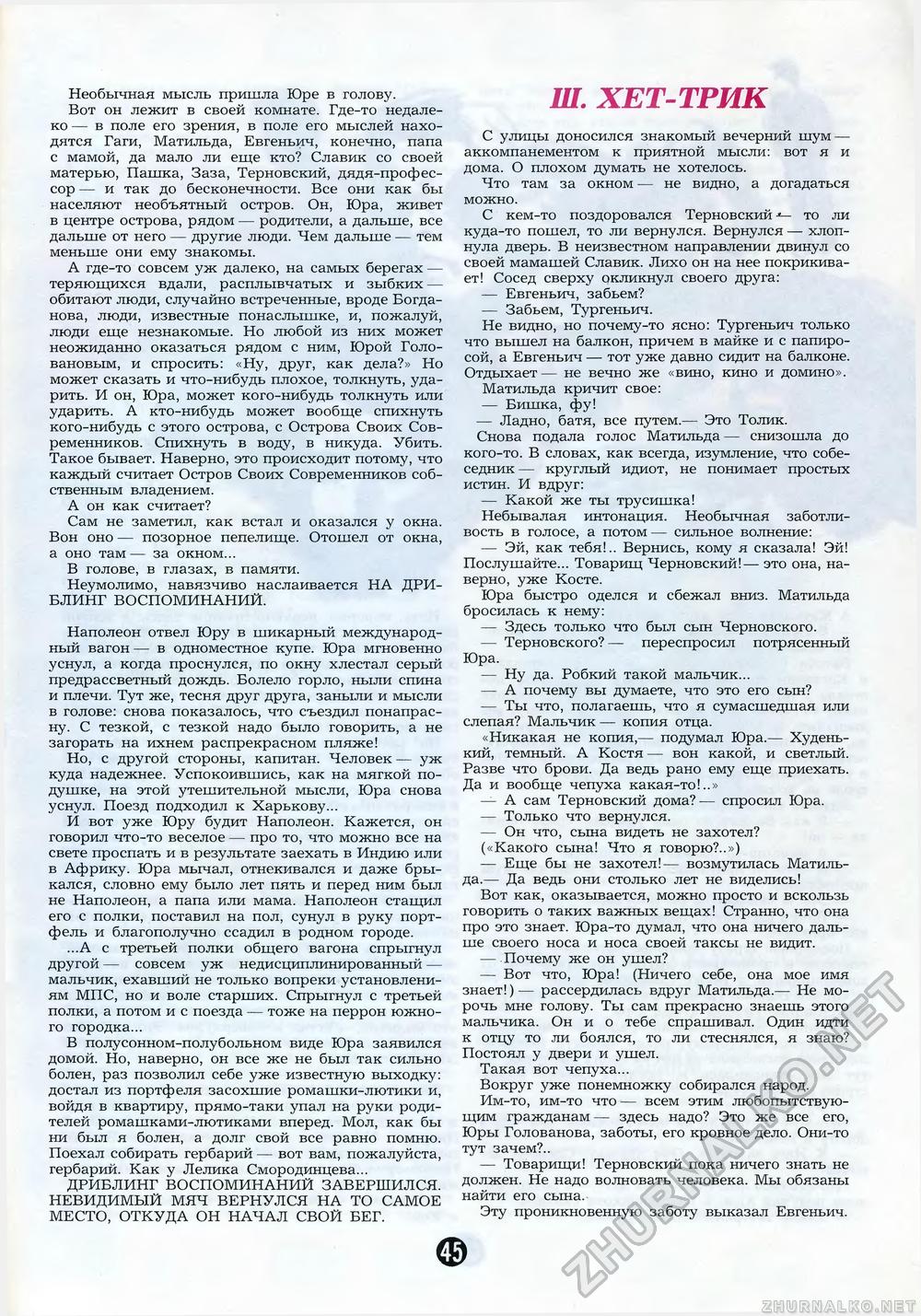
Необычная мысль пришла Юре в голову. Вот он лежит в своей комнате. Где-то недалеко — в поле его зрения, в поле его мыслей находятся Гаги, Матильда, Евгеньич, конечно, папа с мамой, да мало ли еще кто? Славик со своей матерью, Пашка, Заза, Терновский, дядя-профессор — и так до бесконечности. Все они как бы населяют необъятный остров. Он, Юра, живет в центре острова, рядом — родители, а дальше, все дальше от него — другие люди. Чем дальше — тем меньше они ему знакомы. А где-то совсем уж далеко, на самых берегах — теряющихся вдали, расплывчатых и зыбких — обитают люди, случайно встреченные, вроде Богданова, люди, известные понаслышке, и, пожалуй, люди еще незнакомые. Но любой из них может неожиданно оказаться рядом с ним, Юрой Головановым, и спросить: «Ну, друг, как дела?» Но может сказать и что-нибудь плохое, толкнуть, ударить. И он, Юра, может кого-нибудь толкнуть или ударить. А кто-нибудь может вообще спихнуть кого-нибудь с этого острова, с Острова Своих Современников. Спихнуть в воду, в никуда. Убить. Такое бывает. Наверно, это происходит потому, что каждый считает Остров Своих Современников собственным владением. А он как считает? Сам не заметил, как встал и оказался у окна. Вон оно — позорное пепелище. Отошел от окна, а оно там— за окном... В голове, в глазах, в памяти. Неумолимо, навязчиво наслаивается НА ДРИБЛИНГ ВОСПОМИНАНИЙ. Наполеон отвел Юру в шикарный международный вагон — в одноместное купе. Юра мгновенно уснул, а когда проснулся, по окну хлестал серый предрассветный дождь. Болело горло, ныли спина и плечи. Тут же, тесня друг друга, заныли и мысли в голове: снова показалось, что съездил понапрасну. С тезкой, с тезкой надо было говорить, а не загорать на ихнем распрекрасном пляже! Но, с другой стороны, капитан. Человек — уж куда надежнее. Успокоившись, как на мягкой подушке, на этой утешительной мысли, Юра снова уснул. Поезд подходил к Харькову... И вот уже Юру будит Наполеон. Кажется, он говорил что-то веселое — про то, что можно все на свете проспать и в результате заехать в Индию или в Африку. Юра мычал, отнекивался и даже брыкался, словно ему было лет пять и перед ним был не Наполеон, а папа или мама. Наполеон стащил его с полки, поставил на пол, сунул в руку портфель и благополучно ссадил в родном городе. ...А с третьей полки общего вагона спрыгнул другой — совсем уж недисциплинированный — мальчик, ехавший не только вопреки установлениям МПС, но и воле старших. Спрыгнул с третьей полки, а потом и с поезда — тоже на перрон южного городка... В полусонном-полубольном виде Юра заявился домой. Но, наверно, он все же не был так сильно болен, раз позволил себе уже известную выходку: достал из портфеля засохшие ромашки-лютики и, войдя в квартиру, прямо-таки упал на руки родителей ромашками-лютиками вперед. Мол, как бы ни был я болен, а долг свой все равно помню. Поехал собирать гербарий — вот вам, пожалуйста, гербарии. Как у Лелика Смородинцева... ДРИБЛИНГ ВОСПОМИНАНИЙ ЗАВЕРШИЛСЯ. НЕВИДИМЫЙ МЯЧ ВЕРНУЛСЯ НА ТО САМОЕ МЕСТО, ОТКУДА ОН НАЧАЛ СВОЙ БЕГ. Ш. ХЕТ-ТРИК С улицы доносился знакомый вечерний шум — аккомпанементом к приятной мысли: вот я и дома. О плохом думать не хотелось. Что там за окном — не видно, а догадаться можно. С кем-то поздоровался Терновский то ли куда-то пошел, то ли вернулся. Вернулся — хлопнула дверь. В неизвестном направлении двинул со своей мамашей Славик. Лихо он на нее покрикивает! Сосед сверху окликнул своего друга: — Евгеньич, забьем? — Забьем, Тургеньич. Не видно, но почему-то ясно: Тургеньич только что вышел на балкон, причем в майке и с папиросой, а Евгеньич — тот уже давно сидит на балконе. Отдыхает— не вечно же «вино, кино и домино». Матильда кричит свое: — Бишка, фу! — Ладно, батя, все путем.— Это Толик. Снова подала голос Матильда — снизошла до кого-то. В словах, как всегда, изумление, что собеседник — круглый идиот, не понимает простых истин. И вдруг: — Какой же ты трусишка! Небывалая интонация. Необычная заботливость в голосе, а потом — сильное волнение: — Эй, как тебя!.. Вернись, кому я сказала! Эй! Послушайте... Товарищ Черновский!— это она, наверно, уже Косте. Юра быстро оделся и сбежал вниз. Матильда бросилась к нему: — Здесь только что был сын Черновского. — Терновского?— переспросил потрясенный Юра. — Ну да. Робкий такой мальчик... — А почему вы думаете, что это его сын? — Ты что, полагаешь, что я сумасшедшая или слепая? Мальчик — копия отца. «Никакая не копия,— подумал Юра.— Худенький, темный. А Костя— вон какой, и светлый. Разве что брови. Да ведь рано ему еще приехать. Да и вообще чепуха какая-то!..» — А сам Терновский дома?— спросил Юра. — Только что вернулся. — Он что, сына видеть не захотел? («Какого сына! Что я говорю?..») — Еще бы не захотел!— возмутилась Матильда.— Да ведь они столько лет не виделись! Вот как, оказывается, можно просто и вскользь говорить о таких важных вещах! Странно, что она про это знает. Юра-то думал, что она ничего дальше своего носа и носа своей таксы не видит. — Почему же он ушел? — Вот что, Юра! (Ничего себе, она мое имя знает!)— рассердилась вдруг Матильда.— Не морочь мне голову. Ты сам прекрасно знаешь этого мальчика. Он и о тебе спрашивал. Один идти к отцу то ли боялся, то ли стеснялся, я знаю? Постоял у двери и ушел. Такая вот чепуха... Вокруг уже понемножку собирался народ. Им-то, им-то что — всем этим любопытствующим гражданам— здесь надо? Это же все его, Юры Голованова, заботы, его кровное дело. Они-то тут зачем?.. — Товарищи! Терновский пока ничего знать не должен. Не надо волновать человека. Мы обязаны найти его сына. Эту проникновенную заботу выказал Евгеньич. ® |








