Пионер 1989-07, страница 8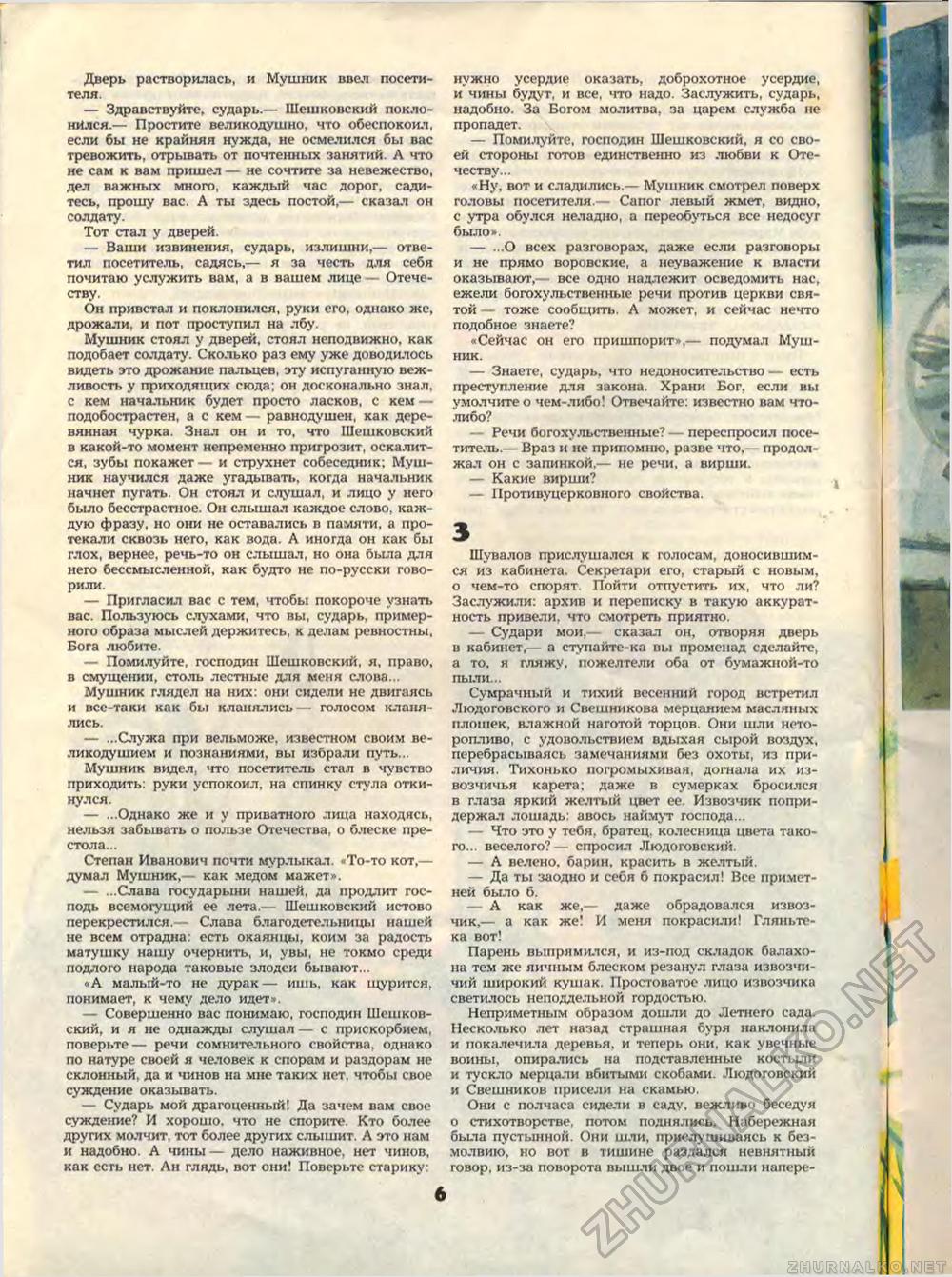
Дверь растворилась, и Мушник ввел посетителя. — Здравствуйте, сударь.— Шешковский поклонился.— Простите великодушно, что обеспокоил, если бы не крайняя нужда, не осмелился бы вас тревожить, отрывать от почтенных занятий. А что не сам к вам пришел — не сочтите за невежество, дел важных много, каждый час дорог, садитесь, прошу вас. А ты здесь постой,— сказал он солдату. Тот стал у дверей. — Ваши извинения, сударь, излишни,— ответил посетитель, садясь,— я за честь для себя почитаю услужить вам, а в вашем лице Отечеству. Он привстал и поклонился, руки его, однако же, дрожали, и пот проступил на лбу. Мушник стоял у дверей, стоял неподвижно, как подобает солдату. Сколько раз ему уже доводилось видеть это дрожание пальцев, эту испуганную вежливость у приходящих сюда; он досконально знал, с кем начальник будет просто ласков, с кем — подобострастен, а с кем— равнодушен, как деревянная чурка. Знал он и то, что Шешковский в какой-то момент непременно пригрозит, оскалится, зубы покажет— и струхнет собеседник; Мушник научился даже угадывать, когда начальник начнет пугать. Он стоял и слушал, и лицо у него было бесстрастное. Он слышал каждое слово, каждую фразу, но они не оставались в памяти, а протекали сквозь него, как вода. А иногда он как бы глох, вернее, речь-то он слышал, но она была для него бессмысленной, как будто не по-русски говорили. — Пригласил вас с тем, чтобы покороче узнать вас. Пользуюсь слухами, что вы, сударь, примерного образа мыслей держитесь, к делам ревностны, Бога любите. — Помилуйте, господин Шешковский, я, право, в смущении, столь лестные для меня слова... Мушник глядел на них: они сидели не двигаясь и все-таки как бы кланялись— голосом кланялись. — ...Служа при вельможе, известном своим великодушием и познаниями, вы избрали путь... Мушник видел, что посетитель стал в чувство приходить: руки успокоил, на спинку стула откинулся. — ...Однако же и у приватного лица находясь, нельзя забывать о пользе Отечества, о блеске престола... Степан Иванович почти мурлыкал. «То-то кот,— думал Мушник,— как медом мажет». — ...Слава государыни нашей, да продлит господь всемогущий ее лета,- Шешковский истово перекрестился.-- Слава благодетелыпщы нашей не всем отрадна: есть окаянцы, коим за радость матушку нашу очернить, и, увы, не токмо среди подлого народа таковые злодеи бывают... «А малый-то не дурак— ишь, как щурится, понимает, к чему дело идет». — Совершенно вас понимаю, господии Шешковский, и я не однажды слушал — с прискорбием, поверьте — речи сомнительного свойства, однако по натуре своей я человек к спорам и раздорам не склонный, да и чинов на мне таких нет, чтобы свое суждение оказывать. — Сударь мой драгоценный! Да зачем вам свое суждение? И хорошо, что не спорите. Кто более других молчит, тот более других слышит. А это нам и надобно. А чины — дело наживное, нет чинов, как есть нет. Ан глядь, вот они! Поверьте старику: нужно усердие оказать, доброхотное усердие, и чины будут, и все, что надо. Заслужить, сударь, надобно. За Богом молитва, за царем служба не пропадет. — Помилуйте, господин Шешковский, я со своей стороны готов единственно из любви к Отечеству... «Ну, вот и сладились.— Мушник смотрел поверх головы посетителя.— Сапог левый жмет, видно, с утра обулся неладно, а переобуться все недосуг было». — ...О всех разговорах, даже если разговоры и не прямо воровские, а неуважение к власти оказывают, все одно надлежит осведомить нас, ежели богохульствонные речи против церкви святой тоже сообщить. А может, и сейчас нечто подобное знаете? «Сейчас он его пришпорит»,— подумал Мушник. — Знаете, сударь, что недоносительство- есть преступление для закона. Храни Бог, если вы умолчите о чем-либо! Отвечайте: известно вам что-либо? Речи богохульственные? — переспросил посетитель.— Враз и не припомню, разве что,— продолжал он с запинкой,— не речи, а вирши. — Какие вирши? — Противуцерковного свойства. 3 Шувалов прислушался к голосам, доносившимся из кабинета. Секретари его. старый с новым, о чем-то спорят. Пойти отпустить их, что ли? Заслужили: архив и переписку в такую аккуратность привели, что смотреть приятно. — Судари мои.— сказал он, отворяя дверь в кабинет,— а ступайте-ка вы променад сделайте, а то, я гляжу, пожелтели оба от бумажной-то пыли... Сумрачный и тихий весенний город встретил Людоговского и Свешникова мерцанием масляных плошек, влажной наготой торцов. Они шли неторопливо, с удовольствием вдыхая сырой воздух, перебрасываясь замечаниями без охоты, из приличия. Тихонько погромыхивая, догнала их извозчичья карета; даже в сумерках бросился в глаза яркий желтый цвет ее. Извозчик попридержал лошадь: авось наймут господа... — Что это у тебя, братец, колесница цвета такого... веселого?— спросил Людоговский. — А велено, барин, красить в желтый. — Да ты заодно и себя б покрасил! Все приметней было б. — А как же,— даже обрадовался извозчик,— а как же! И меня покрасили! Гляньте-ка вот! Парень выпрямился, и из-под складок балахона тем же яичным блеском резанул глаза извозчичий широкий кушак. Простоватое лицо извозчика светилось неподдельной гордостью. Неприметным образом дошли до Летнего сада. Несколько лет назад страшная буря наклонила и покалечила деревья, и теперь они, как увечные воины, опирались на подставленные костыли и тускло мерцали вбитыми скобами. Людоговский и Свешников присели на скамью. Они с полчаса сидели в саду, вежливо беседуя о стихотворстве, потом поднялись. Набережная была пустынной. Они шли, прислушиваясь к безмолвию, но вот в тишине раздался невнятный говор, из-за поворота вышли двое и пошли иапере- 6 |








