Пионер 1989-10, страница 28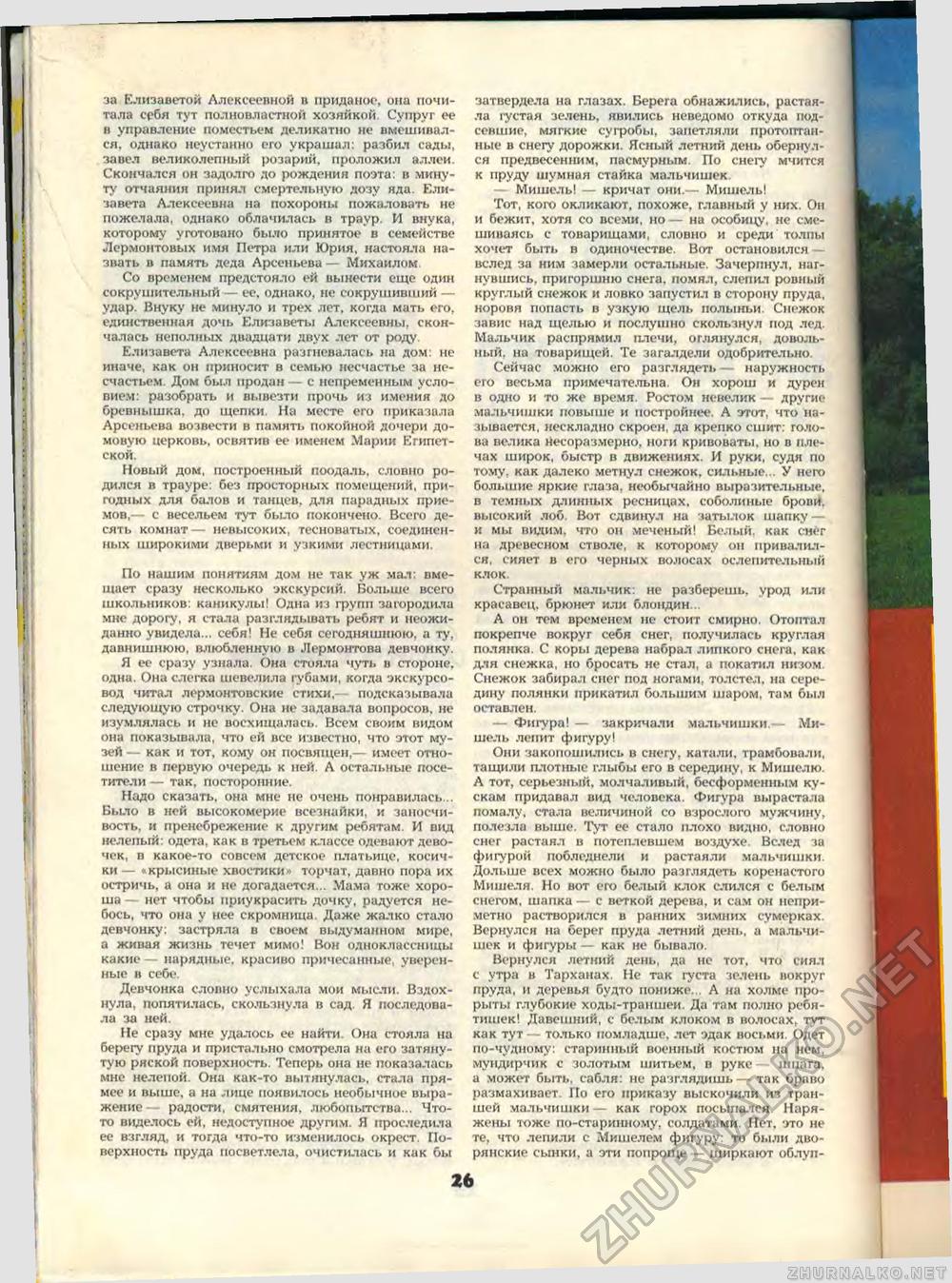
за Елизаветой Алексеевной в приданое, она почитала себя тут полновластной хозяйкой. Супруг ее н управление поместьем деликатно не вмешивался, однако неустанно его украшал: разбил сады, завел великолепный розарий, проложил аллеи. Скончался он задолго до рождения поэта: в минуту отчаяния принял смертельную дозу яда. Елизавета Алексеевна на похороны пожаловать не пожелала, однако облачилась в траур. И внука, которому уготовано было принятое в семействе Лермонтовых имя Петра или Юрия, настояла назвать в память деда Арсеньева — Михаилом. Со временем предстояло ей вынести еще один сокрушительный— ее, однако, не сокрушивший — удар. Внуку не минуло и трех лег, когда мать его, единственная дочь Елизаветы Алексеевны, скончалась неполных двадцати двух лет от роду. Елизавета Алексеевна разгневалась на дом: не иначе, как он приносит в семью несчастье за несчастьем. Дом был продан — с непременным условием: разобрать и вывезти прочь из имения до бревнышка, до щепки. На месте его приказала Арсеньева возвести в память покойной дочери домовую церковь, освятив ее именем Марии Египетской. Новый дом, построенный поодаль, словно родился в трауре: без просторных помещений, пригодных для балов и танцев, для парадных приемов,- с весельем гут было покончено. Всего десять комнат— невысоких, тесноватых, соединенных широкими дверьми и узкими лестницами. По нашим понятиям дом не так уж мал: вмещает сразу несколько экскурсий. Больше всего школьников: каникулы! Одна из групп загородила мне дорогу, я стала разглядывать ребят и неожиданно увидела... себя! Не себя сегодняшнюю, а ту. давнишнюю, влюбленную в Лермонтова девчонку. Я ее сразу узнала. Она стояла чуть в стороне, одна. Она слегка шевелила губами, когда экскурсовод читал лермонтовские стихи,— подсказывала следующую строчку. Она не задавала вопросов, не изумлялась и не восхищалась. Всем своим видом она показывала, что ей все известно, что этот музей — как и тот, кому он посвящен,— имеет отношение в первую очередь к ней. А остальные посетители — так, посторонние. Надо сказать, она мне не очень понравилась... Выло в ней высокомерие всезнайки, и заносчивость. и пренебрежение к другим ребятам. И вид нелепый: одета, как в третьем классе одевают девочек, в какое-то совсем детское платьице, косички — «крысиные хвостики» торчат, давно пора их остричь, а она и не догадается... Мама тоже хороша - нет чтобы приукрасить дочку, радуется небось, что она у нее скромница. Даже жалко стало девчонку: застряла в своем выдуманном мире, а живая жизнь течет мимо! Вон одноклассницы какие - нарядные, красиво причесанные, уверенные в себе. Девчонка словно услыхала мои мысли. Вздохнула, попятилась, скользнула в сад. Я последовала за ней. Не сразу мне удалось ее найти. Она стояла на берегу пруда и пристально смотрела на его затянутую риской поверхность. Теперь она не показалась мне нелепой. Она как-то вытянулась, стала прямее и выше, а на лице появилось необычное выражение радости, смятения, любопытства... Что-то виделось ей, недоступное другим. Я проследила ее взгляд, и тогда что-то изменилось окрест. Поверхность пруда посветлела, очистилась и как бы затвердела на глазах. Берега обнажились, растаяла густая зелень, явились неведомо откуда подсевшие, мягкие сугробы, запетляли протоптанные в снегу дорожки. Ясный летний день обернулся предвесенним, пасмурным. По снегу мчится к пруду шумная стайка мальчишек. Мишель! — кричат они. - Мишель! Тот, кого окликают, похоже, главный у них. Он и бежит, хотя со всеми, но— на особицу, не смешиваясь с товарищами, словно и среди толпы хочет быть в одиночестве. Вот остановился -вслед за ним замерли остальные. Зачерпнул, нагнувшись, пригоршню снега, помял, слепил ровный круглый снежок и ловко запустил в сторону пруда, норовя попасть в узкую щель полыньи. Снежок завис над щелью и послушно скользнул под лед. Мальчик распрямил плечи, оглянулся, довольный, на товарищей. Те загалдели одобрительно. Сейчас можно его разглядеть - наружность его весьма примечательна. Он хорош и дурен в одно и то же время. Ростом невелик — другие мальчишки повыше и постройнее. А этот, что называется. нескладно скроен, да крепко сшит: голова велика Несоразмерно, ноги кривоваты, но в плечах широк, быстр в движениях. И руки, судя по тому, как далеко метнул снежок, сильные... У него большие яркие глаза, необычайно выразительные, в темных длинных ресницах, соболиные брови, высокий лоб. Вот сдвинул на затылок шапку — и мы видим, что он меченый! Белый, как снег на древесном стволе, к которому он привалился, сияет в его черных волосах ослепительный клок. Странный мальчик: не разберешь, урод или красавец, брюнет или блондин... А он тем временем не стоит смирно, Отоптал покрепче вокруг себя снег, получилась круглая полянка. С коры дерева набрал липкого снега, как для снежка, но бросать не стал, а покатил низом. Снежок забирал снег под ногами, толстел, на середину полянки прикатил большим шаром, там был оставлен. — Фигура! — закричали мальчишки.— Мишель лепит фигуру! Они закопошились в снегу, катали, трамбовали, тащили плотные глыбы его в середину, к Мишелю. А тот, серьезный, молчаливый, бесформенным кускам придавал вид человека. Фигура вырастала помалу, стала величиной со взрослого мужчину, полезла выше. Тут ее стало плохо видно, словно снег растаял в потеплевшем воздухе. Вслед за фигурой побледнели и растаяли мальчишки. Дольше всех можно было разглядеть коренастого Мишеля, Но нот его белый клок слился с белым снегом, шапка — с веткой дерева, и сам он неприметно растворился в ранних зимних сумерках. Вернулся на берег пруда летний день, а мальчишек и фигуры — как не бывало. Вернулся летний день, да не тот, что сиял с утра в Тарханах. Не так густа зелень вокруг пруда, и деревья будто пониже... А на холме прорыты глубокие ходы-траншеи. Да там полно ребятишек! Давешний, с белым клоком в полосах, тут как тут— только помладше, лет эдак восьми. Одет по-чудному: старинный военный костюм на нем, мундирчик с золотым шитьем, в руке— шпага, а может быть, сабля: не разглядишь— так браво размахивает. ГГо его приказу выскочили из траншей мальчишки— как горох посыпался. Наряжены тоже по-старинному, солдатами. Нет, это не те, что лепили с Мишелем фигуру: то были дворянские сынки, а эти попроще — ширкают облуп- 26 |








