Пионер 1990-10, страница 32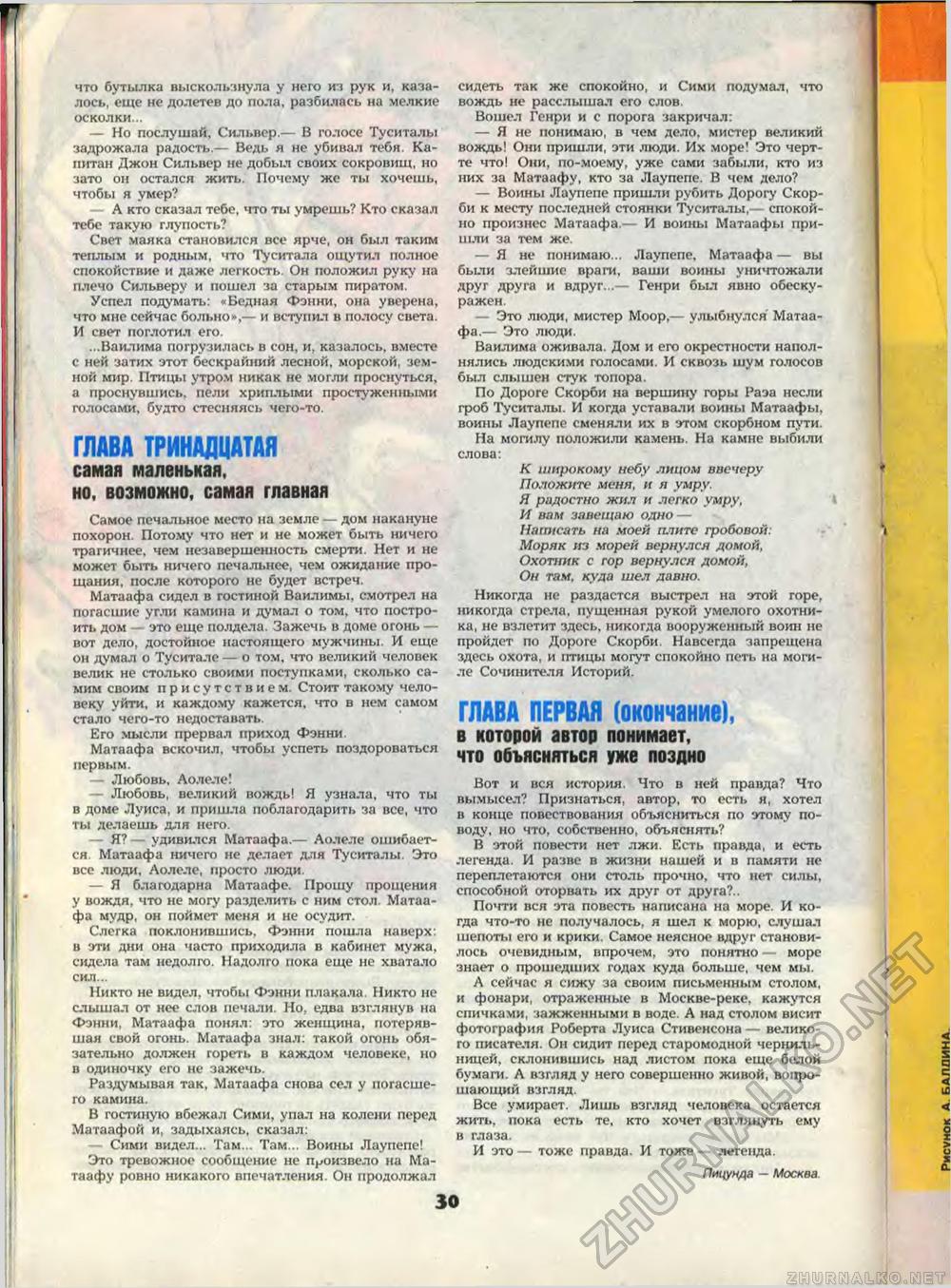
что бутылка выскользнула у него из рук и, казалось, еще не долетев до пола, разбилась на мелкие осколки... — Но послушай, Сильвер.— В голосе Туситалы задрожала радость.— Ведь я не убивал тебя. Капитан Джон Сильвер не добыл своих сокровищ, но зато он остался жить. Почему же ты хочешь, чтобы я умер? А кто сказал тебе, что ты умрешь? Кто сказал тебе такую глупость? Свет маяка становился все ярче, он был таким теплым и родным, что Туситала ощутил полное спокойствие и даже легкость. Он положил руку на плечо Сильверу и пошел за старым пиратом. Успел подумать: «Бедная Фэнни, она уверена, что мне сейчас больно»,— и вступил в полосу света. И свет поглотил его. ...Ваилима погрузилась в сон, и. казалось, вместе с ней затих этот бескрайний лесной, морской, земной мир. Птицы утром никак не могли проснуться, а проснувшись, пели хриплыми простуженными голосами, будто стесняясь чего-то. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ самая маленькая, но, возможно, самая главная Самое печальное место на земле — дом накануне похорон. Потому что нет и не может быть ничего трагичнее, чем незавершенность смерти. Нет и не может быть ничего печальнее, чем ожидание прощания, после которого не будет встреч. Матаафа сидел в гостиной Ваилимы, смотрел на погасшие угли камина и думал о том, что построить дом это еще полдела. Зажечь в доме огонь — вот дело, достойное настоящего мужчины. И еще он думал о Туситале — о том, что великий человек велик не столько своими поступками, сколько самим своим присутствием. Стоит такому человеку уйти, и каждому кажется, что в нем самом стало чего-то недоставать. Его мысли прервал приход Фэнни. Матаафа вскочил, чтобы успеть поздороваться первым. — Любовь, Аолеле! Любовь, великий вождь! Я узнала, что ты в доме Луиса, и пришла поблагодарить за все, что ты делаешь для него. Я? — удивился Матаафа.— Аолеле ошибается. Матаафа ничего не делает для Туситалы. Это все люди, Аолеле, просто люди. — Я благодарна Матаафе. Прошу прощения у вождя, что не могу разделить с ним стол. Матаафа мудр, он поймет меня и не осудит. Слегка поклонившись, Фэнни пошла наверх: в эти дни она часто приходила в кабинет мужа, сидела там недолго. Надолго пока еще не хватало сил... Никто не видел, чтобы Фэнни плакала. Никто не слышал от нее слов печали. Но, едва взглянув на Фэнни, Матаафа понял: это женщина, потерявшая свой огонь. Матаафа знал: такой огонь обязательно должен гореть в каждом человеке, но в одиночку его не зажечь. Раздумывая так, Матаафа снова сел у погасшего камина. В гостиную вбежал Сими, упал на колени перед Матаафой и, задыхаясь, сказал: Сими видел... Там... Там... Воины Лаупепе! Это тревожное сообщение не произвело на Ма-таафу ровно никакого впечатления. Он продолжал сидеть так же спокойно, и Сими подумал, что вождь не расслышал его слов. Вошел Генри и с порога закричал: — Я не понимаю, в чем дело, мистер великий вождь! Они пришли, эти люди. Их море! Это черт-те что! Они, по-моему, уже сами забыли, кто из них за Матаафу, кто за Лаупепе. В чем дело? — Воины Лаупепе пришли рубить Дорогу Скорби к месту последней стоянки Туситалы,— спокойно произнес Матаафа.— И воины Матаафы пришли за тем же. — Я не понимаю... Лаупепе, Матаафа — вы были злейшие враги, ваши воины уничтожали друг друга и вдруг...— Генри был явно обескуражен. Это люди, мистер Моор,— улыбнулся Матаафа.— Это люди. Ваилима оживала. Дом и его окрестности наполнялись людскими голосами. И сквозь шум голосов был слышен стук топора. По Дороге Скорби на вершину горы Раэа несли гроб Туситалы. И когда уставали воины Матаафы, воины Лаупепе сменяли их в этом скорбном пути. На могилу положили камень. На камне выбили слова: К широкому небу яйцом ввечеру Положите меня, и я умру. Я радостно жил и легко умру, И вам завещаю одно — Написать на моей плите гробовой: Моряк из морей вернулся домой, Охотю1к с гор вернулся домой, Он там, куда шел давно. Никогда не раздастся выстрел на этой горе, никогда стрела, пущенная рукой умелого охотника, не взлетит здесь, никогда вооруженный воин не пройдет по Дороге Скорби. Навсегда запрещена здесь охота, и птицы могут спокойно петь на могиле Сочинителя Историй. ГЛАВА ПЕРВАЯ (окончание), в которой автор понимает, что объясняться уже поздно Вот и вся история. Что в ней правда? Что вымысел? Признаться, автор, то есть я, хотел в конце повествования объясниться по этому поводу, но что, собственно, объяснять? В этой повести нет лжи. Есть правда, и есть легенда. И разве в жизни нашей и в памяти не переплетаются они столь прочно, что нет силы, способной оторвать их друг от друга?.. Почти вся эта повесть написана на море. И когда что-то не получалось, я шел к морю, слушал шепоты его и крики. Самое неясное вдруг становилось очевидным, впрочем, это понятно море знает о прошедших годах куда больше, чем мы. А сейчас я сижу за своим письменным столом, и фонари, отраженные в Москве-реке, кажутся спичками, зажженными в воде. А над столом висит фотография Роберта Луиса Стивенсона — великого писателя. Он сидит перед старомодной чернильницей, склонившись над листом пока еще белой бумаги. А взгляд у него совершенно живой, вопрошающий взгляд. Все умирает. Лишь взгляд человека остается жить, пока есть те, кто хочет взглянуть ему в глаза. И это — тоже правда. И тоже легенда. Пицунда — Москва. эо |








