Техника - молодёжи 1964-06, страница 31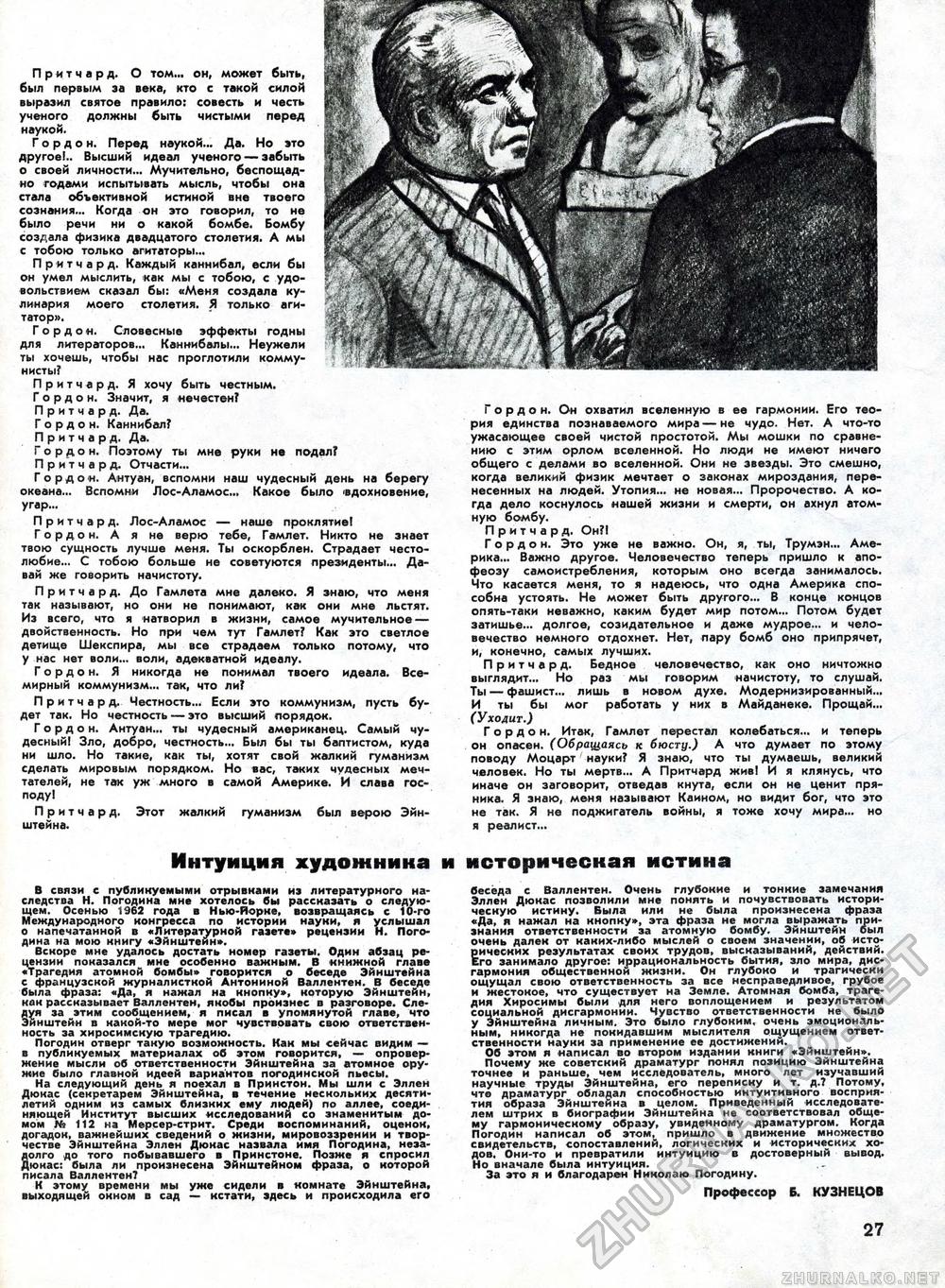
Притчард. О том... он, может быть, был первым за века, кто с такой силой выразил святое правило: совесть и честь ученого должны быть чистыми перед наукой. Гордон. Перед наукой... Да. Но это другое!.. Высший идеал ученого — забыть о своей личности... Мучительно, беспощадно годами испытывать мысль, чтобы она стала объективной истиной вне твоего сознания... Когда он это говорил, то не было речи ни о какой бомбе. Бомбу создала физика двадцатого столетия. А мы с тобою только агитаторы... Притчард. Каждый каннибал, если бы он умел мыслить, как мы с тобою, с удовольствием сказал бы: «Меня создала кулинария моего столетия. Я только агитатор». Гордон. Словесные эффекты годны для литераторов... Каннибалы... Неужели ты хочешь, чтобы нас проглотили коммунисты? Притчард. Я хочу быть честным. Г о р д о н. Значит, я нечестен? Притчард. Да. Гордон. Каннибал? Притчард. Да. Гордон. Поэтому ты мне руки не подал? Притчард. Отчасти... Гордон. Антуан, вспомни наш чудесный день на берегу океана... Вспомни Лос-Аламос... Какое было 'вдохновение, угар... Притчард. Лос-Аламос — наше проклятие! Гордон. А я не верю тебе, Гамлет. Никто не знает твою сущность лучше меня. Ты оскорблен. Страдает честолюбие... С тобою больше не советуются президенты... Давай же говорить начистоту. Притчард. До Гамлета мне далеко. Я знаю, что меня так называют, но они не понимают, как они мне льстят. Из всего, что я натворил в жизни, самое мучительное — двойственность. Но при чем тут Гамлет? Как это светлое детище Шекспира, мы все страдаем только потому, что у нас нет воли... воли, адекватной идеалу. Гордон. Я никогда не понимал твоего идеала. Всемирный коммунизм... так, что ли? Притчард. Честность... Если это коммунизм, пусть будет так. Но честность — это высший порядок. Гордон. Антуан... ты чудесный американец. Самый чудесный! Зло, добро, честность... Был бы ты баптистом, куда ни шло. Но такие, как ты, хотят свой жалкий гуманизм сделать мировым порядком. Но вас, таких чудесных мечтателей, не так уж много в самой Америке. И слава господу! Притчард. Этот жалкий гуманизм был верою Эйнштейна. Гордон. Он охватил вселенную в ее гармонии. Его теория единства познаваемого мира—не чудо. Нет. А что-то ужасающее своей чистой простотой. Мы мошки по сравнению с этим орлом вселенной. Но люди не имеют ничего общего с делами во вселенной. Они не звезды. Это смешно, когда великий физик мечтает о законах мироздания, перенесенных на людей. Утопия... не новая... Пророчество. А когда дело коснулось нашей жизни и смерти, он ахнул атомную бомбу. Притчард. Он?! Гордон. Это уже не важно. Он, я, ты, Трумэн... Америка... Важно другое. Человечество теперь пришло к апофеозу самоистребления, которым оно всегда занималось. Что касается меня, то я надеюсь, что одна Америка способна устоять. Не может быть другого... В конце концов опять-таки неважно, каким будет мир потом... Потом будет затишье... долгое, созидательное и даже мудрое... и человечество немного отдохнет. Нет, пару бомб оно припрячет, и, конечно, самых лучших. Притчард. Бедное человечество, как оно ничтожно выглядит... Но раз мы говорим начистоту, то слушай. Ты — фашист... лишь в новом духе. Модернизированный... И ты бы мог работать у них в Майданеке. Прощай... (Уходит.) Гордон. Итак, Гамлет перестал колебаться... и теперь он опасен. (Обращаясь к бюсту.) А что думает по этому поводу Моцарт науки? Я знаю, что ты думаешь, великий человек. Но ты мертв... А Притчард жив! И я клянусь, что иначе он заговорит, отведав кнута, если он не ценит пряника. Я знаю, меня называют Каином, но видит бог, что это не так. Я не поджигатель войны, я тоже хочу мира... но я реалист... Интуиция художника В связи с публикуемыми отрывками из литературного наследства Н. Погодина мне хотелось бы рассказать о следующем. Осенью 1962 года в Нью-Йорке, возвращаясь с 10-го Международного конгресса по истории науки, я услышал о напечатанной в «Литературной газете» рецензии Н. Погодина на мою книгу «Эйнштейн». Вскоре мне удалось достать номер газеты. Один абзац рецензии показался мне особенно важным. В книжной главе «Трагедия атомной бомбы» говорится о беседе Эйнштейна с французской журналисткой Антониной Валлентен. В беседе была фраза: «Да, я нажал на кнопку», которую Эйнштейн, как рассказывает Валлентен, якобы произнес в разговоре. Следуя за этим сообщением, я писал в упомянутой главе, что Эйнштейн в какой-то мере мог чувствовать свою ответственность за хиросимскую трагедию. Погодин отверг такую возможность. Кан мы сейчас видим — в публикуемых материалах об этом говорится, — опровержение мысли об ответственности Эйнштейна за атомное оружие было главной идеей вариантов погодинской пьесы. На следующий день я поехал в Принстон. Мы шли с Эллен Дюкас (секретарем Эйнштейна, в течение нескольких десятилетий одним из самых близких ему людей) по аллее, соединяющей Институт высших исследований со знаменитым домом № 112 на Мерсер-стрит. Среди воспоминаний, оценок, догадок, важнейших сведений о жизни, мировоззрении и творчестве Эйнштейна Эллен Дюкас назвала имя Погодина, неза- Йолго до того побывавшего в Принстоне. Позже я спросил юкас: была ли произнесена Эйнштейном фраза, о которой писала Валлентен? К этому времени мы уже сидели в комнате Эйнштейна, выходящей окном в сад — кстати, здесь и происходила его историческая истина беседа с Валлентен. Очень глубокие и тонкие замечания Эллен Дюкас позволили мне понять и почувствовать историческую истину. Была или не была произнесена фраза «Да, я нажал на кнопку», эта фраза не могла выражать признания ответственности за атомную бомбу. Эйнштейн был очень далек от каких-либо мыслей о своем значении, об исторических результатах своих трудов, высказываний, действий. Его занимало другое: иррациональность бытия, зло мира, дисгармония общественной жизни. Он глубоко и трагически ощущал свою ответственность за все несправедливое, грубое и жестокое, что существует на Земле. Атомная бомба, трагедия Хиросимы были для него воплощением и результатом социальной дисгармонии. Чувство ответственности не было у Эйнштейна личным. Это было глубоким, очень эмоциональным, никогда не покидавшим мыслителя ощущением ответственности науки за применение ее достижений. Об этом я написал во втором издании книги «Эйнштейн». Почему же советский драматург понял позицию Эйнштейна точнее и раньше, чем исследователь, много лет изучавший научные труды Эйнштейна, его переписку и т. д.? Потому, что драматург обладал способностью интуитивного восприятия образа Эйнштейна в целом. Приведенный исследователем штрих в биографии Эйнштейна не соответствовал общему гармоническому образу, увиденному драматургом. Когда Погодин написал об этом, пришло в движение множество свидетельств, сопоставлений, логических и исторических ходов. Они-то и превратили интуицию в достоверный вывод. Но вначале была интуиция. За это я и благодарен Николаю Погодину. Профессор Б. КУЗНЕЦОВ 27 |








