Вокруг света 1966-07, страница 66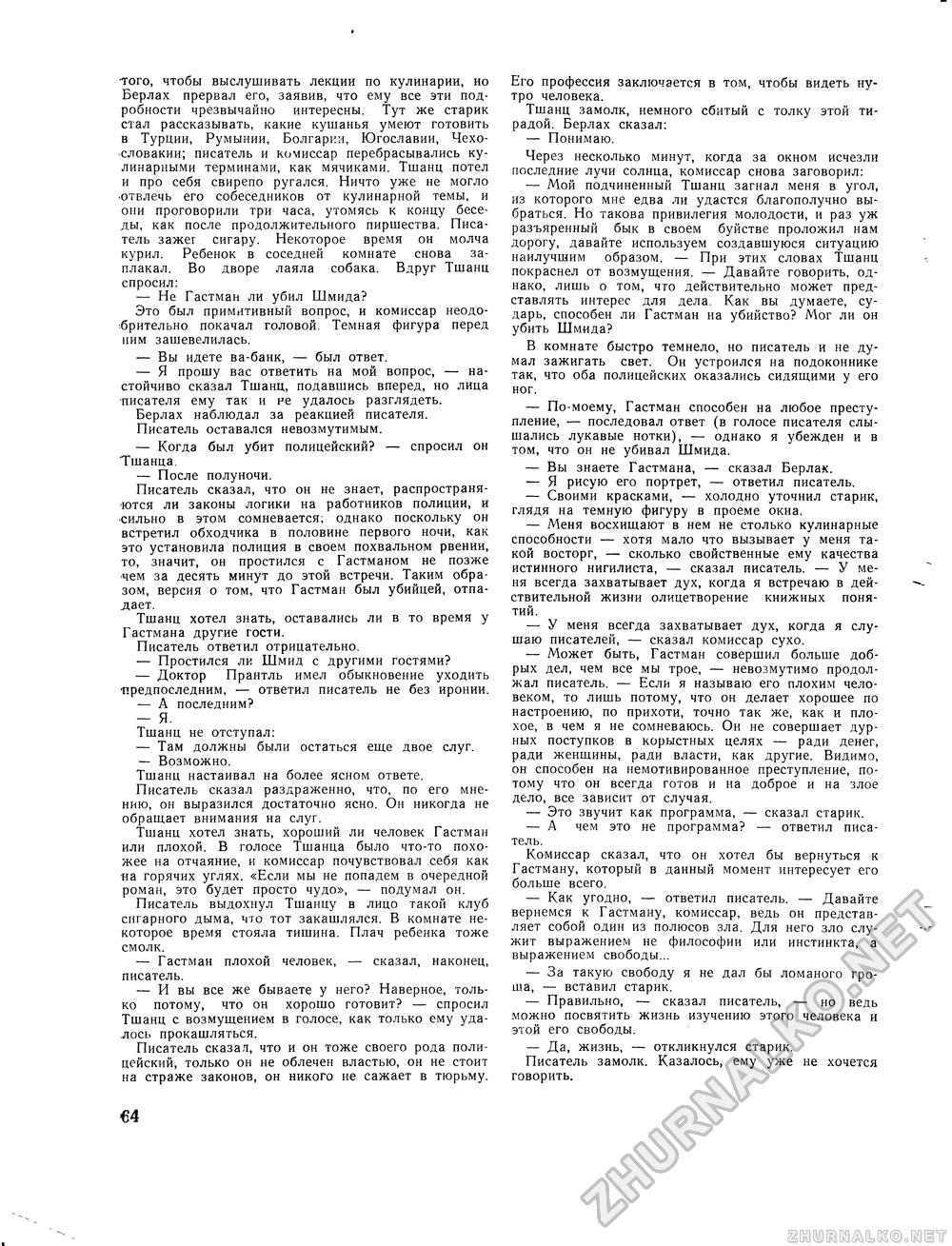
-того, чтобы выслушивать лекции по кулинарии, но Берлах прервал его, заявив, что ему все эти подробности чрезвычайно интересны. Тут же старик стал рассказывать, какие кушанья умеют готовить в Турции, Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии; писатель и комиссар перебрасывались кулинарными терминами, как мячиками. Тшанц потел и про себя свирепо ругался. Ничто уже не могло ♦отвлечь его собеседников от кулинарной темы, и они проговорили три часа, утомясь к концу беседы, как после продолжительного пиршества. Писатель зажег сигару. Некоторое время он молча курил. Ребенок в соседней комнате снова заплакал. Во дворе лаяла собака. Вдруг Тшанц спросил: — Не Гастман ли убил Шмида? Это был примитивный вопрос, и комиссар неодо-:брительно покачал головой. Темная фигура перед ним зашевелилась. — Вы идете ва-банк, — был ответ. — Я прошу вас ответить на мой вопрос, — настойчиво сказал Тшанц, подавшись вперед, но лица -писателя ему так и не удалось разглядеть. Берлах наблюдал за реакцией писателя. Писатель оставался невозмутимым. — Когда был убит полицейский? — спросил он Тшанца. — После полуночи. Писатель сказал, что он не знает, распространяются ли законы логики на работников полиции, и сильно в этом сомневается; однако поскольку он встретил обходчика в половине первого ночи, как это установила полиция в своем похвальном рвении, то, значит, он простился с Гастманом не позже чем за десять минут до этой встречи. Таким образом, версия о том, что Гастман был убийцей, отпадает. Тшанц хотел знать, оставались ли в то время у Гастмана другие гости. Писатель ответил отрицательно. — Простился ли Шмид с другими гостями? — Доктор Прантль имел обыкновение уходить ■предпоследним, — ответил писатель не без иронии. — А последним? — Я. Тшанц не отступал: — Там должны были остаться еще двое слуг. — Возможно. Тшанц настаивал на более ясном ответе. Писатель сказал раздраженно, что, по его мнению, он выразился достаточно ясно. Он никогда не обращает внимания на слуг. Тшанц хотел знать, хороший ли человек Гастман или плохой. В голосе Тшанца было что-то похожее на отчаяние, и комиссар почувствовал себя как на горячих углях. «Если мы не попадем в очередной роман, это будет просто чудо», — подумал он. Писатель выдохнул Тшанцу в лицо такой клуб сигарного дыма, что тот закашлялся. В комнате некоторое время стояла тишина. Плач ребенка тоже смолк. — Гастман плохой человек, — сказал, наконец, писатель. — И вы все же бываете у него? Наверное, только потому, что он хорошо готовит? — спросил Тшанц с возмущением в голосе, как только ему удалось прокашляться. Писатель сказал, что и он тоже своего рода полицейский, только он не облечен властью, он не стоит на страже законов, он никого не сажает в тюрьму. Его профессия заключается в том, чтобы видеть нутро человека. Тшанц замолк, немного сбитый с толку этой тирадой. Берлах сказал: — Понимаю. Через несколько минут, когда за окном исчезли последние лучи солнца, комиссар снова заговорил: — Мой подчиненный Тшанц загнал меня в угол, из которого мне едва ли удастся благополучно выбраться. Но такова привилегия молодости, и раз уж разъяренный бык в своем буйстве проложил нам дорогу, давайте используем создавшуюся ситуацию наилучшим образом. — При этих словах Тшанц покраснел от возмущения. — Давайте говорить, однако, лишь о том, что действительно может представлять интерес для дела. Как вы думаете, сударь, способен ли Гастман на убийство? Мог ли он убить Шмида? В комнате быстро темнело, но писатель и не думал зажигать свет. Он устроился на подоконнике так, что оба полицейских оказались сидящими у его ног. — По-моему, Гастман способен на любое преступление, — последовал ответ (в голосе писателя слышались лукавые нотки), — однако я убежден и в том, что он не убивал Шмида. — Вы знаете Гастмана, — сказал Берлах. — Я рисую его портрет, — ответил писатель. — Своими красками, — холодно уточнил старик, глядя на темную фигуру в проеме окна. — Меня восхищают в нем не столько кулинарные способности — хотя мало что вызывает у меня такой восторг, — сколько свойственные ему качества истинного нигилиста, — сказал писатель. — У меня всегда захватывает дух, когда я встречаю в действительной жизни олицетворение книжных понятий. — У меня всегда захватывает дух, когда я слушаю писателей, — сказал комиссар сухо. — Может быть, Гастман совершил больше добрых дел, чем все мы трое, — невозмутимо продолжал писатель. — Если я называю его плохим человеком, то лишь потому, что он делает хорошее по настроению, по прихоти, точно так же, как и плохое, в чем я не сомневаюсь. Он не совершает дурных поступков в корыстных целях — ради денег, ради женщины, ради власти, как другие. Видимо, он способен на немотивированное преступление, потому что он всегда готов и на доброе и на злое дело, все зависит от случая. — Это звучит как программа, — сказал старик. — А чем это не программа? — ответил писатель. Комиссар сказал, что он хотел бы вернуться к Гастману, который в данный момент интересует его больше всего. — Как угодно, — ответил писатель. — Давайте вернемся к Гастману, комиссар, ведь он представляет собой один из полюсов зла. Для него зло служит выражением не философии или инстинкта, а выражением свободы... — За такую свободу я не дал бы ломаного гроша, — вставил старик. — Правильно, — сказал писатель, — но ведь можно посвятить жизнь изучению этого человека и этой его свободы. — Да, жизнь, — откликнулся старик. Писатель замолк. Казалось, ему уже не хочется говорить. 64 |








