Вокруг света 1966-12, страница 18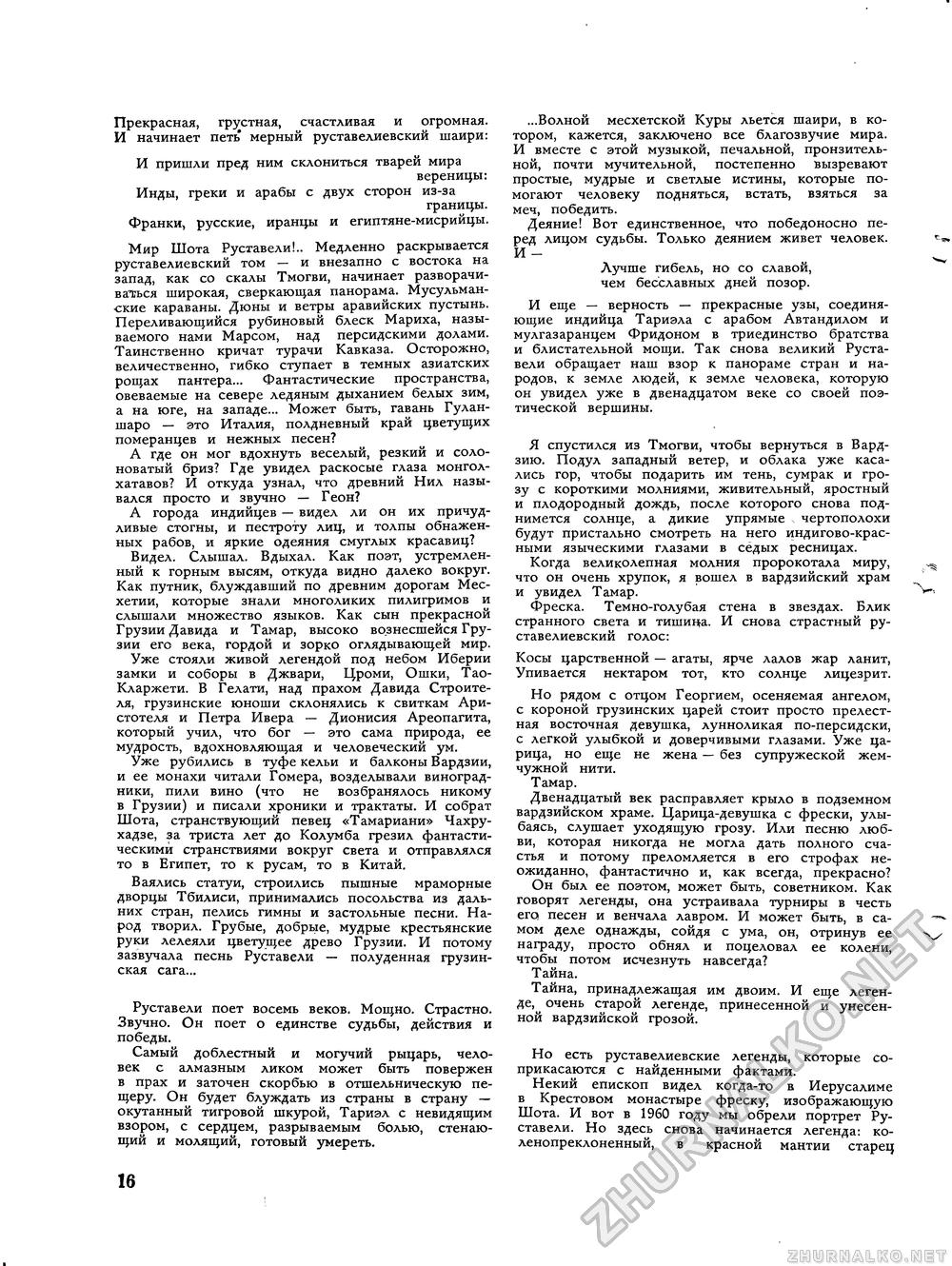
Прекрасная, грустная, счастливая и огромная. И начинает петь мерный руставелиевский шаири: И пришли пред ним склониться тварей мира вереницы: Инды, греки и арабы с двух сторон из-за границы. Франки, русские, иранцы и египтяне-мисрийцы. Мир Шота Руставели!.. Медленно раскрывается руставелиевский том — и внезапно с востока на запад, как со скалы Тмогви, начинает разворачиваться широкая, сверкающая панорама. Мусульманские караваны. Дюны и ветры аравийских пустынь. Переливающийся рубиновый блеск Мариха, называемого нами Марсом, над персидскими долами. Таинственно кричат турачи Кавказа. Осторожно, величественно, гибко ступает в темных азиатских рощах пантера... Фантастические пространства, овеваемые на севере ледяным дыханием белых зим, а на юге, на западе... Может быть, гавань Гулан-шаро — это Италия, полдневный край цветущих померанцев и нежных песен? А где он мог вдохнуть веселый, резкий и солоноватый бриз? Где увидел раскосые глаза монгол-хатавов? И откуда узнал, что древний Нил назывался просто и звучно — Геон? А города индийцев — видел ли он их причудливые стогны, и пестроту лиц, и толпы обнаженных рабов, и яркие одеяния смуглых красавиц? Видел. Слышал. Вдыхал. Как поэт, устремленный к горным высям, откуда видно далеко вокруг. Как путник, блуждавший по древним дорогам Месхетии, которые знали многоликих пилигримов и слышали множество языков. Как сын прекрасной Грузии Давида и Тамар, высоко вознесшейся Грузии его века, гордой и зорко оглядывающей мир. Уже стояли живой легендой под небом Иберии замки и соборы в Джвари, Цроми, Ошки, Тао-Кларжети. В Гелати, над прахом Давида Строителя, грузинские юноши склонялись к свиткам Аристотеля и Петра Ивера — Дионисия Ареопагита, который учил, что бог — это сама природа, ее мудрость, вдохновляющая и человеческий ум. Уже рубились в туфе кельи и балконы Вардзии, и ее монахи читали Гомера, возделывали виноградники, пили вино (что не возбранялось никому в Грузии) и писали хроники и трактаты. И собрат Шота, странствующий певец «Тамариани» Чахру-хадзе, за триста лет до Колумба грезил фантастическими странствиями вокруг света и отправлялся то в Египет, то к русам, то в Китай. Ваялись статуи, строились пышные мраморные дворцы Тбилиси, принимались посольства из дальних стран, пелись гимны и застольные песни. Народ творил. Грубые, добрые, мудрые крестьянские руки лелеяли цветущее древо Грузии. И потому зазвучала песнь Руставели — полуденная грузинская сага... Руставели поет восемь веков. Мощно. Страстно. Звучно. Он поет о единстве судьбы, действия и победы. Самый доблестный и могучий рыцарь, человек с алмазным ликом может быть повержен в прах и заточен скорбью в отшельническую пещеру. Он будет блуждать из страны в страну — окутанный тигровой шкурой, Тариэл с невидящим взором, с сердцем, разрываемым болью, стенающий и молящий, готовый умереть. ...Волной месхетской Куры льется шаири, в котором, кажется, заключено все благозвучие мира. И вместе с этой музыкой, печальной, пронзительной, почти мучительной, постепенно вызревают простые, мудрые и светлые истины, которые помогают человеку подняться, встать, взяться за меч, победить. Деяние! Вот единственное, что победоносно перед лицом судьбы. Только деянием живет человек. И - Лучше гибель, но со славой, чем бесславных дней позор. И еще — верность — прекрасные узы, соединяющие индийца Тариэла с арабом Автандилом и мулгазаранцем Фридоном в триединство братства и блистательной мощи. Так снова великий Руставели обращает наш взор к панораме стран и народов, к земле людей, к земле человека, которую он увидел уже в двенадцатом веке со своей поэтической вершины. Я спустился из Тмогви, чтобы вернуться в Вард-зию. Подул западный ветер, и облака уже касались гор, чтобы подарить им тень, сумрак и грозу с короткими молниями, живительный, яростный и плодородный дождь, после которого снова поднимется солнце, а дикие упрямые s чертополохи будут пристально смотреть на него индигово-крас-ными языческими глазами в седых ресницах. Когда великолепная молния пророкотала миру, что он очень хрупок, я вошел в вардзийский храм и увидел Тамар. Фреска. Темно-голубая стена в звездах. Блик странного света и тишица. И снова страстный руставелиевский голос: Косы царственной — агаты, ярче лалов жар ланит, Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит. Но рядом с отцом Георгием, осеняемая ангелом, с короной грузинских царей стоит просто прелестная восточная девушка, лунноликая по-персидски, с легкой улыбкой и доверчивыми глазами. Уже царица, но еще не жена — без супружеской жемчужной нити. Тамар. Двенадцатый век расправляет крыло в подземном вардзийском храме. Царица-девушка с фрески, улыбаясь, слушает уходящую грозу. Или песню любви, которая никогда не могла дать полного счастья и потому преломляется в его строфах неожиданно, фантастично и, как всегда, прекрасно? Он был ее поэтом, может быть, советником. Как говорят легенды, она устраивала турниры в честь его песен и венчала лавром. И может быть, в самом деле однажды, сойдя с ума, он, отринув ее награду, просто обнял и поцеловал ее колени, чтобы потом исчезнуть навсегда? Тайна. Тайна, принадлежащая им двоим. И еще легенде,^ очень старой легенде, принесенной и унесенной вардзийской грозой. Но есть руставелиевские легенды, которые соприкасаются с найденными фактами. Некий епископ видел когда-то в Иерусалиме в Крестовом монастыре фреску, изображающую Шота. И вот в 1960 году мы обрели портрет Руставели. Но здесь снова начинается легенда: коленопреклоненный, в красной мантии старец 16 |








