Вокруг света 1968-11, страница 70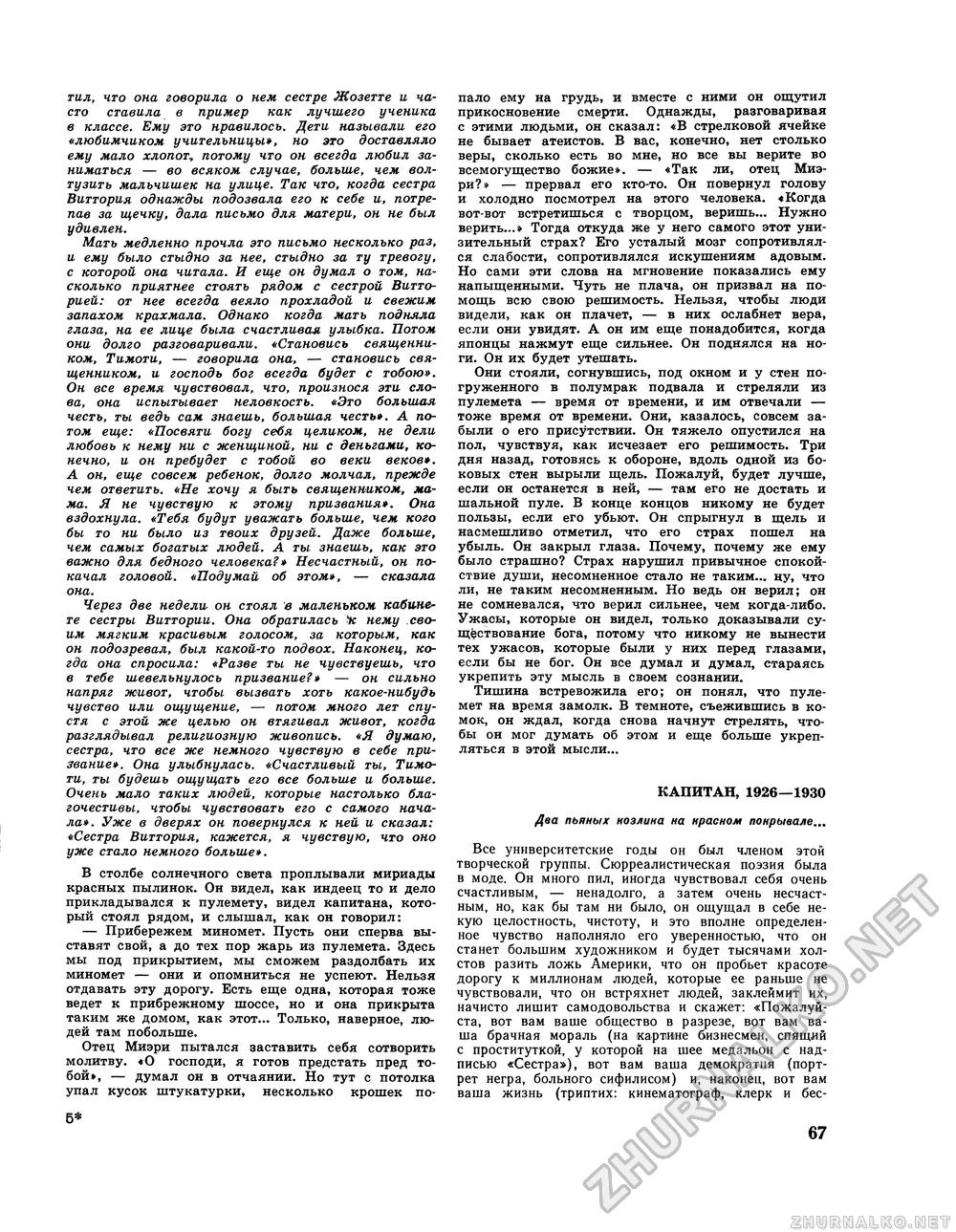
тил, что она говорила о нем сестре Жозетте и часто ставила в пример как лучшего ученика в классе. Ему это нравилось. Дети называли его «любимчиком учительницы», но это доставляло ему мало хлопот, потому что он всегда любил заниматься — во всяком случае, больше, чем вол-тузить мальчишек на улице. Так что, когда сестра Виттория однажды подозвала его к себе и, потрепав за щечку, дала письмо для матери, он не был удивлен. Мать медленно прочла это письмо несколько раз, и ему было стыдно за нее, стыдно за ту тревогу, с которой она читала. И еще он думал о том, насколько приятнее стоять рядом с сестрой Витто-рией: от нее всегда веяло прохладой и свежим запахом крахмала. Однако когда мать подняла глаза, на ее лице была счастливая улыбка. Потом они долго разговаривали. «Становись священником, Тимоти, — говорила она, — становись священником, и господь бог всегда будет с тобою». Он все время чувствовал, что, произнося эти слова, она испытывает неловкость. «Это большая честь, ты ведь сам знаешь, большая честь». А потом еще: «Посвяти богу себя целиком, не дели любовь к нему ни с женщиной, ни с деньгами, конечно, и он пребудет с тобой во веки веков». А он, еще совсем ребенок, долго молчал, прежде чем ответить. «Не хочу я быть священником, мама. Я не чувствую к этому призвания». Она вздохнула. «Тебя будут уважать больше, чем кого бы то ни было из твоих друзей. Даже больше, чем самых богатых людей. А ты знаешь, как это важно для бедного человека?» Несчастный, он покачал головой. «Подумай об этом», — сказала она. Через две недели он стоял в маленьком кабинете сестры Виттории. Она обратилась Ы нему своим мягким красивым голосом, за которым, как он подозревал, был какой-то подвох. Наконец, когда она спросила: «Разве ты не чувствуешь, что в тебе шевельнулось призвание?» — он сильно напряг живот, чтобы вызвать хоть какое-нибудь чувство или ощущение, — потом много лет спустя с этой же целью он втягивал живот, когда разглядывал религиозную живопись. «Я думаю, сестра, что все же немного чувствую в себе призвание». Она улыбнулась. «Счастливый ты, Тимоти, ты будешь ощущать его все больше и больше. Очень мало таких людей, которые настолько благочестивы, чтобы чувствовать его с самого начала». Уже в дверях он повернулся к ней и сказал: «Сестра Виттория, кажется, я чувствую, что оно уже стало немного больше». В столбе солнечного света проплывали мириады красных пылинок. Он видел, как индеец то и дело прикладывался к пулемету, видел капитана, который стоял рядом, и слышал, как он говорил: — Прибережем миномет. Пусть они сперва выставят свой, а до тех пор жарь из пулемета. Здесь мы под прикрытием, мы сможем раздолбать их миномет — они и опомниться не успеют. Нельзя отдавать эту дорогу. Есть еще одна, которая тоже ведет к прибрежному шоссе, но и она прикрыта таким же домом, как этот... Только, наверное, людей там побольше. Отец Миэри пытался заставить себя сотворить молитву. «О господи, я готов предстать пред тобой», — думал он в отчаянии. Но тут с потолка упал кусок штукатурки, несколько крошек по 5* пало ему на грудь, и вместе с ними он ощутил прикосновение смерти. Однажды, разговаривая с этими людьми, он сказал: «В стрелковой ячейке не бывает атеистов. В вас, конечно, нет столько веры, сколько есть во мне, но все вы верите во всемогущество божие». — «Так ли, отец Миэри?» — прервал его кто-то. Он повернул голову и холодно посмотрел на этого человека. «Когда вот-вот встретишься с творцом, веришь... Нужно верить...» Тогда откуда же у него самого этот унизительный страх? Его усталый мозг сопротивлялся слабости, сопротивлялся искушениям адовым. Но сами эти слова на мгновение показались ему напыщенными. Чуть не плача, он призвал на помощь всю свою решимость. Нельзя, чтобы люди видели, как он плачет, — в них ослабнет вера, если они увидят. А он им еще понадобится, когда японцы нажмут еще сильнее. Он поднялся на ноги. Он их будет утешать. Они стояли, согнувшись, под окном и у стен погруженного в полумрак подвала и стреляли из пулемета — время от времени, и им отвечали — тоже время от времени. Они, казалось, совсем забыли о его присутствии. Он тяжело опустился на пол, чувствуя, как исчезает его решимость. Три дня назад, готовясь к обороне, вдоль одной из боковых стен вырыли щель. Пожалуй, будет лучше, если он останется в ней, — там его не достать и шальной пуле. В конце концов никому не будет пользы, если его убьют. Он спрыгнул в щель и насмешливо отметил, что его страх пошел на убыль. Он закрыл глаза. Почему, почему же ему было страшно? Страх нарушил привычное спокойствие души, несомненное стало не таким... ну, что ли, не таким несомненным. Но ведь он верил; он не сомневался, что верил сильнее, чем когда-либо. Ужасы, которые он видел, только доказывали существование бога, потому что никому не вынести тех ужасов, которые были у них перед глазами, если бы не бог. Он все думал и думал, стараясь укрепить эту мысль в своем сознании. Тишина встревожила его; он понял, что пулемет на время замолк. В темноте, съежившись в комок, он ждал, когда снова начнут стрелять, чтобы он мог думать об этом и еще больше укрепляться в этой мысли... КАПИТАН, 1926—1930 Два пьяных нозлина на красном покрывале... Все университетские годы он был членом этой творческой группы. Сюрреалистическая поэзия была в моде. Он много пил, иногда чувствовал себя очень счастливым, — ненадолго, а затем очень несчастным, но, как бы там ни было, он ощущал в себе некую целостность, чистоту, и это вполне определенное чувство наполняло его уверенностью, что он станет большим художником и будет тысячами холстов разить ложь Америки, что он пробьет красоте дорогу к миллионам людей, которые ее раньше не чувствовали, что он встряхнет людей, заклеймит их, начисто лишит самодовольства и скажет: «Пожалуйста, вот вам ваше общество в разрезе, вот вам ваша брачная мораль (на картине бизнесмен, спящий с проституткой, у которой на шее медальон с надписью «Сестра»), вот вам ваша демократия (портрет негра, больного сифилисом) и, наконец, вот вам ваша жизнь (триптих: кинематограф, клерк и бес 67 |








