Вокруг света 1968-11, страница 74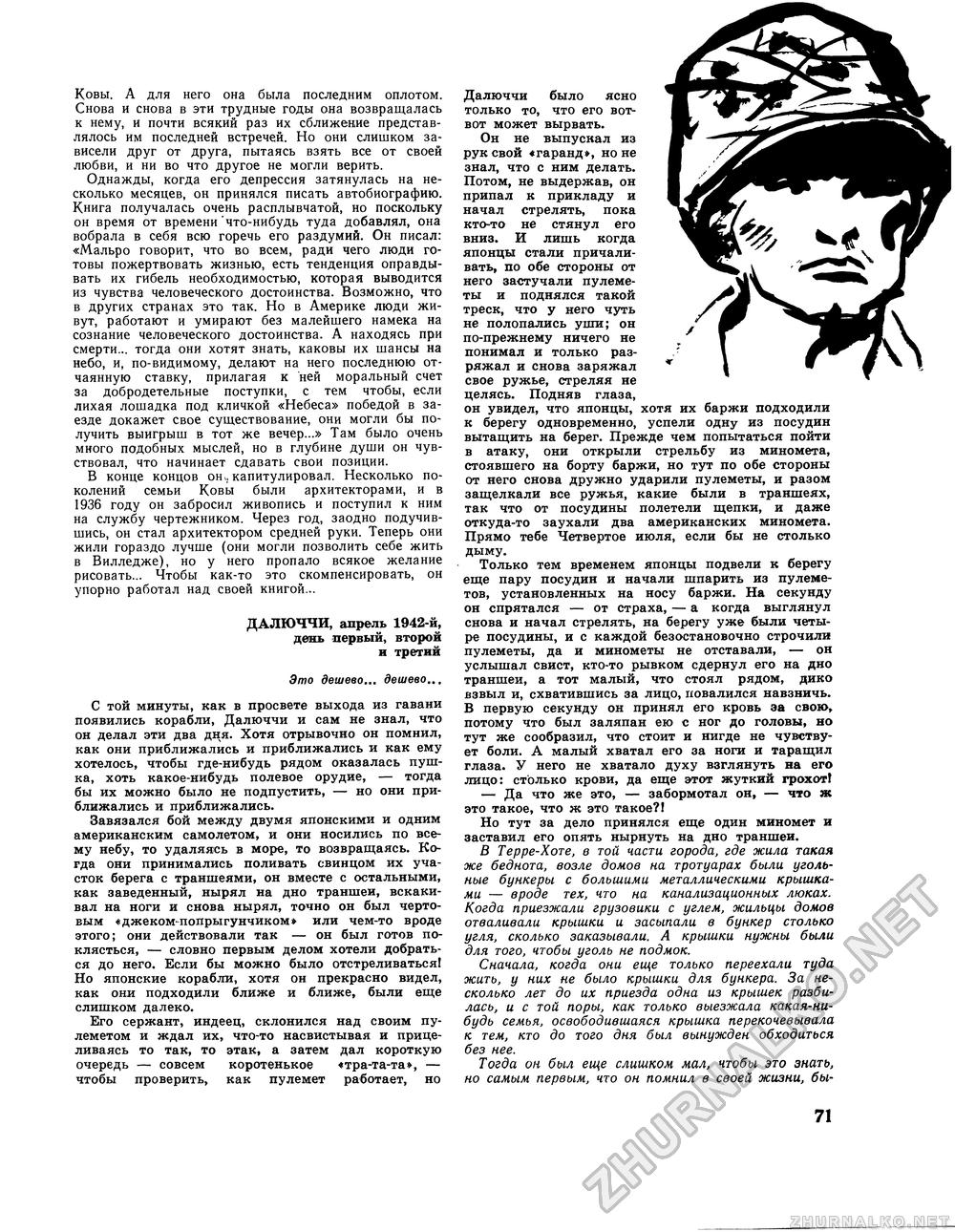
Ковы. А для него она была последним оплотом. Снова и снова в эти трудные годы она возвращалась к нему, и почти всякий раз их сближение представлялось им последней встречей. Но они слишком зависели друг от друга, пытаясь взять все от своей любви, и ни во что другое не могли верить. Однажды, когда его депрессия затянулась на несколько месяцев, он принялся писать автобиографию. Книга получалась очень расплывчатой, но поскольку он время от времени что-нибудь туда добавлял, она вобрала в себя всю горечь его раздумий. Он писал: «Мальро говорит, что во всем, ради чего люди готовы пожертвовать жизнью, есть тенденция оправдывать их гибель необходимостью, которая выводится из чувства человеческого достоинства. Возможно, что в других странах это так. Но в Америке люди живут, работают и умирают без малейшего намека на сознание человеческого достоинства. А находясь при смерти... тогда они хотят знать, каковы их шансы на небо, и, по-видимому, делают на него последнюю отчаянную ставку, прилагая к ней моральный счет за добродетельные поступки, с тем чтобы, если лихая лошадка под кличкой «Небеса» победой в заезде докажет свое существование, они могли бы получить выигрыш в тот же вечер...» Там было очень много подобных мыслей, но в глубине души он чувствовал, что начинает сдавать свои позиции. В конце концов они капитулировал. Несколько поколений семьи Ковы были архитекторами, и в 1936 году он забросил живопись и поступил к ним на службу чертежником. Через год, заодно получившись, он стал архитектором средней руки. Теперь они жили гораздо лучше (они могли позволить себе жить в Вилледже), но у него пропало всякое желание рисовать... Чтобы как-то это скомпенсировать, он упорно работал над своей книгой... ДАЛЮЧЧИ, апрель 1942-й, день первый, второй и третий Это дешево... дешево... С той минуты, как в просвете выхода из гавани появились корабли, Далюччи и сам не знал, что он делал эти два дня. Хотя отрывочно он помнил, как они приближались и приближались и как ему хотелось, чтобы где-нибудь рядом оказалась пушка, хоть какое-нибудь полевое орудие, — тогда бы их можно было не подпустить, — но они приближались и приближались. Завязался бой между двумя японскими и одним американским самолетом, и они носились по всему небу, то удаляясь в море, то возвращаясь. Когда они принимались поливать свинцом их участок берега с траншеями, он вместе с остальными, как заведенный, нырял на дно траншеи, вскакивал на ноги и снова нырял, точно он был чертовым «джеком-попрыгунчиком» или чем-то вроде этого; они действовали так — он был готов поклясться, — словно первым делом хотели добраться до него. Если бы можно было отстреливаться! Но японские корабли, хотя он прекрасно видел, как они подходили ближе и ближе, были еще слишком далеко. Его сержант, индеец, склонился над своим пулеметом и ждал их, что-то насвистывая и прицеливаясь то так, то этак, а затем дал короткую очередь — совсем коротенькое «тра-та-та», — чтобы проверить, как пулемет работает, но Далюччи было ясно только то, что его вот-вот может вырвать. Он не выпускал из рук свой «гаранд», ноне знал, что с ним делать. Потом, не выдержав, он припал к прикладу и начал стрелять, пока кто-то не стянул его вниз. И лишь когда японцы стали причаливать, по обе стороны от него застучали пулеметы и поднялся такой треск, что у него чуть не полопались уши; он по-прежнему ничего не понимал и только разряжал и снова заряжал свое ружье, стреляя не целясь. Подняв глаза, он увидел, что японцы, хотя их баржи подходили к берегу одновременно, успели одну из посудин вытащить на берег. Прежде чем попытаться пойти в атаку, они открыли стрельбу из миномета, стоявшего на борту баржи, но тут по обе стороны от него снова дружно ударили пулеметы, и разом защелкали все ружья, какие были в траншеях, так что от посудины полетели щепки, и даже откуда-то заухали два американских миномета. Прямо тебе Четвертое июля, если бы не столько дыму. Только тем временем японцы подвели к берегу еще пару посудин и начали шпарить из пулеметов, установленных на носу баржи. На секунду он спрятался — от страха, — а когда выглянул снова и начал стрелять, на берегу уже были четыре посудины, и с каждой безостановочно строчили пулеметы, да и минометы не отставали, — он услышал свист, кто-то рывком сдернул его на дно траншеи, а тот малый, что стоял рядом, дико взвыл и, схватившись за лицо, повалился навзничь. В первую секунду он принял его кровь за свою, потому что был заляпан ею с ног до головы, но тут же сообразил, что стоит и нигде не чувствует боли. А малый хватал его за ноги и таращил глаза. У него не хватало духу взглянуть на его лицо: столько крови, да еще этот жуткий грохот! — Да что же это, — забормотал он, — что ж это такое, что ж это такое?! Но тут за дело принялся еще один миномет и заставил его опять нырнуть на дно траншеи. В Терре-Хоте, в той части города, где жила такая же беднота, возле домов на тротуарах были угольные бункеры с большими металлическими крышками — вроде тех, что на канализационных люках. Когда приезжали грузовики с углем, жильцы домов отваливали крышки и засыпали в бункер столько угля, сколько заказывали. А крышки нужны были для того, чтобы уголь не подмок. Сначала, когда они еще только переехали туда жить, у них не было крышки для бункера. За несколько лет до их приезда одна из крышек разбилась, и с той поры, как только выезжала какая-нибудь семья, освободившаяся крышка перекочевывала к тем, кто до того дня был вынужден обходиться без нее. Тогда он был еще слишком мал, чтобы это знать, но самым первым, что он помнил в своей жизни, бы 71 |








