Вокруг света 1968-11, страница 77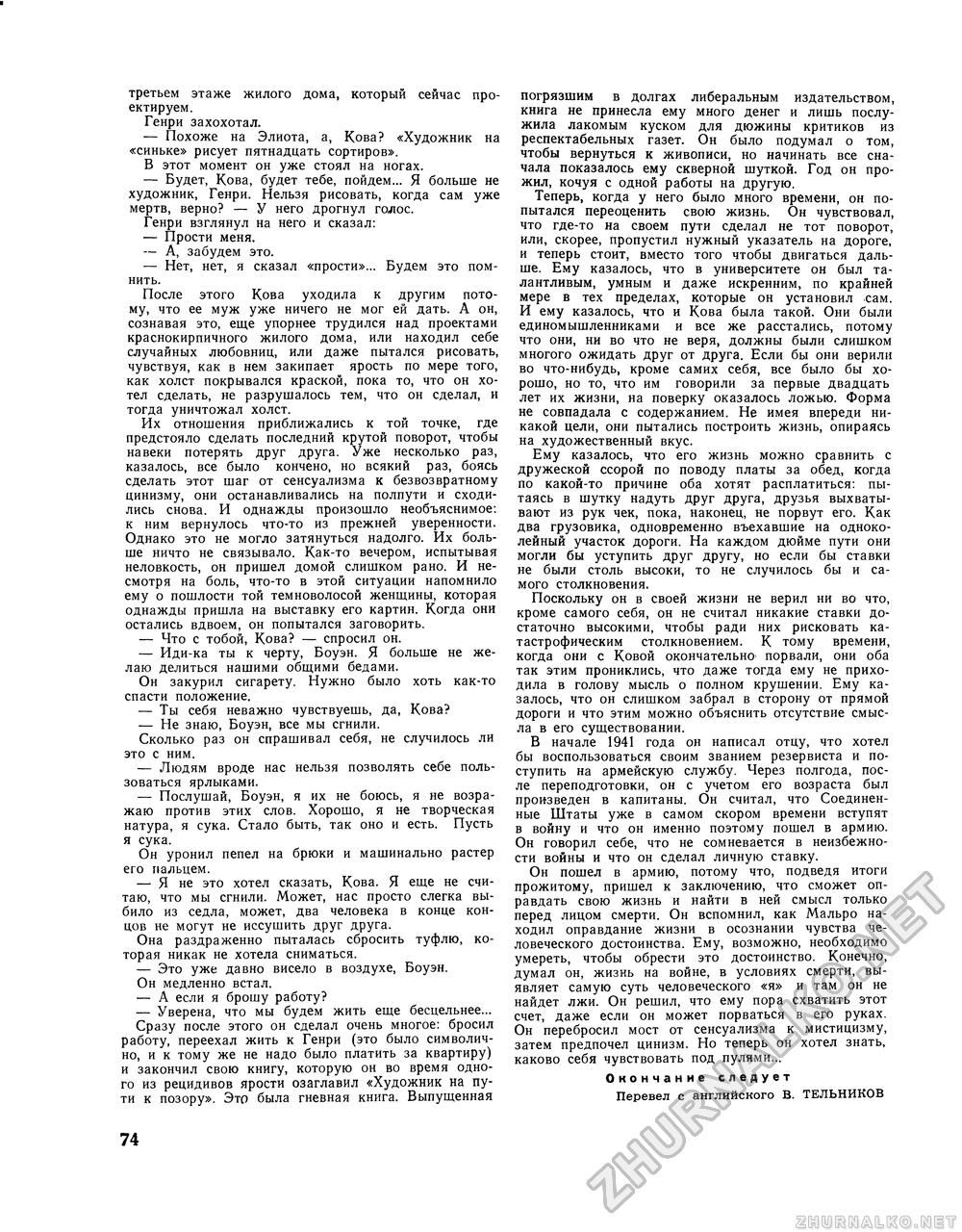
третьем этаже жилого дома, который сейчас проектируем. Генри захохотал. — Похоже на Элиота, а, Кова? «Художник на «синьке» рисует пятнадцать сортиров». В этот момент он уже стоял на ногах. — Будет, Кова, будет тебе, пойдем... Я больше не художник, Генри. Нельзя рисовать, когда сам уже мертв, верно? — У него дрогнул голос. Генри взглянул на него и сказал: — Прости меня. — А, забудем это. — Нет, нет, я сказал «прости»... Будем это помнить. После этого Кова уходила к другим потому, что ее муж уже ничего не мог ей дать. А он, сознавая это, еще упорнее трудился над проектами краснокирпичного жилого дома, или находил себе случайных любовниц, или даже пытался рисовать, чувствуя, как в нем закипает ярость по мере того, как холст покрывался краской, пока то, что он хотел сделать, не разрушалось тем, что он сделал, и тогда уничтожал холст. Их отношения приближались к той точке, где предстояло сделать последний крутой поворот, чтобы навеки потерять друг друга. Уже несколько раз, казалось, все было кончено, но всякий раз, боясь сделать этот шаг от сенсуализма к безвозвратному цинизму, они останавливались на полпути и сходились снова. И однажды произошло необъяснимое: к ним вернулось что-то из прежней уверенности. Однако это не могло затянуться надолго. Их больше ничто не связывало. Как-то вечером, испытывая неловкость, он пришел домой слишком рано. И несмотря на боль, что-то в этой ситуации напомнило ему о пошлости той темноволосой женщины, которая однажды пришла на выставку его картин. Когда они остались вдвоем, он попытался заговорить. — Что с тобой, Кова? — спросил он. — Иди-ка ты к черту, Боуэн. Я больше не желаю делиться нашими общими бедами. Он закурил сигарету. Нужно было хоть как-то спасти положение. — Ты себя неважно чувствуешь, да, Кова? — Не знаю, Боуэн, все мы сгнили. Сколько раз он спрашивал себя, не случилось ли это с ним. — Людям вроде нас нельзя позволять себе пользоваться ярлыками. — Послушай, Боуэн, я их не боюсь, я не возражаю против этих слов. Хорошо, я не творческая натура, я сука. Стало быть, так оно и есть. Пусть я сука. Он уронил пепел на брюки и машинально растер его пальцем. — Я не это хотел сказать, Кова. Я еще не считаю, что мы сгнили. Может, нас просто слегка выбило из седла, может, два человека в конце концов не могут не иссушить друг друга. Она раздраженно пыталась сбросить туфлю, которая никак не хотела сниматься. — Это уже давно висело в воздухе, Боуэн. Он медленно встал. — А если я брошу работу? — Уверена, что мы будем жить еще бесцельнее... Сразу после этого он сделал очень многое: бросил работу, переехал жить к Генри (это было символично, и к тому же не надо было платить за квартиру) и закончил свою книгу, которую он во время одного из рецидивов ярости озаглавил «Художник на пути к позору». Это была гневная книга. Выпущенная погрязшим в долгах либеральным издательством, книга не принесла ему много денег и лишь послужила лакомым куском для дюжины критиков из респектабельных газет. Он было подумал о том, чтобы вернуться к живописи, но начинать все сначала показалось ему скверной шуткой. Год он прожил, кочуя с одной работы на другую. Теперь, когда у него было много времени, он попытался переоценить свою жизнь. Он чувствовал, что где-то на своем пути сделал не тот поворот, или, скорее, пропустил нужный указатель на дороге, и теперь стоит, вместо того чтобы двигаться дальше. Ему казалось, что в университете он был талантливым, умным и даже искренним, по крайней мере в тех пределах, которые он установил сам. И ему казалось, что и Кова была такой. Они были единомышленниками и все же расстались, потому что они, ни во что не веря, должны были слишком многого ожидать друг от друга. Если бы они верили во что-нибудь, кроме самих себя, все было бы хорошо, но то, что им говорили за первые двадцать лет их жизни, на поверку оказалось ложью. Форма не совпадала с содержанием. Не имея впереди никакой цели, они пытались построить жизнь, опираясь на художественный вкус. Ему казалось, что его жизнь можно сравнить с дружеской ссорой по поводу платы за обед, когда по какой-то причине оба хотят расплатиться: пытаясь в шутку надуть друг друга, друзья выхватывают из рук чек, пока, наконец, не порвут его. Как два грузовика, одновременно въехавшие на одноколейный участок дороги. На каждом дюйме пути они могли бы уступить друг другу, но если бы ставки не были столь высоки, то не случилось бы и самого столкновения. Поскольку он в своей жизни не верил ни во что, кроме самого себя, он не считал никакие ставки достаточно высокими, чтобы ради них рисковать катастрофическим столкновением. К тому времени, когда они с Ковой окончательно порвали, они оба так этим прониклись, что даже тогда ему не приходила в голову мысль о полном крушении. Ему казалось, что он слишком забрал в сторону от прямой дороги и что этим можно объяснить отсутствие смысла в его существовании. В начале 1941 года он написал отцу, что хотел бы воспользоваться своим званием резервиста и поступить на армейскую службу. Через полгода, после переподготовки, он с учетом его возраста был произведен в капитаны. Он считал, что Соединенные Штаты уже в самом скором времени вступят в войну и что он именно поэтому пошел в армию. Он говорил себе, что не сомневается в неизбежности войны и что он сделал личную ставку. Он пошел в армию, потому что, подведя итоги прожитому, пришел к заключению, что сможет оправдать свою жизнь и найти в ней смысл только перед лицом смерти. Он вспомнил, как Мальро находил оправдание жизни в осознании чувства человеческого достоинства. Ему, возможно, необходимо умереть, чтобы обрести это достоинство. Конечно, думал он, жизнь на войне, в условиях смерти, выявляет самую суть человеческого «я» и там он не найдет лжи. Он решил, что ему пора схватить этот счет, даже если он может порваться в его руках. Он перебросил мост от сенсуализма к мистицизму, затем предпочел цинизм. Но теперь он хотел знать, каково себя чувствовать под пулями... Окончание следует Перевел с английского В. ТЕЛЬНИКОВ 74 |








