Костёр 1967-12, страница 18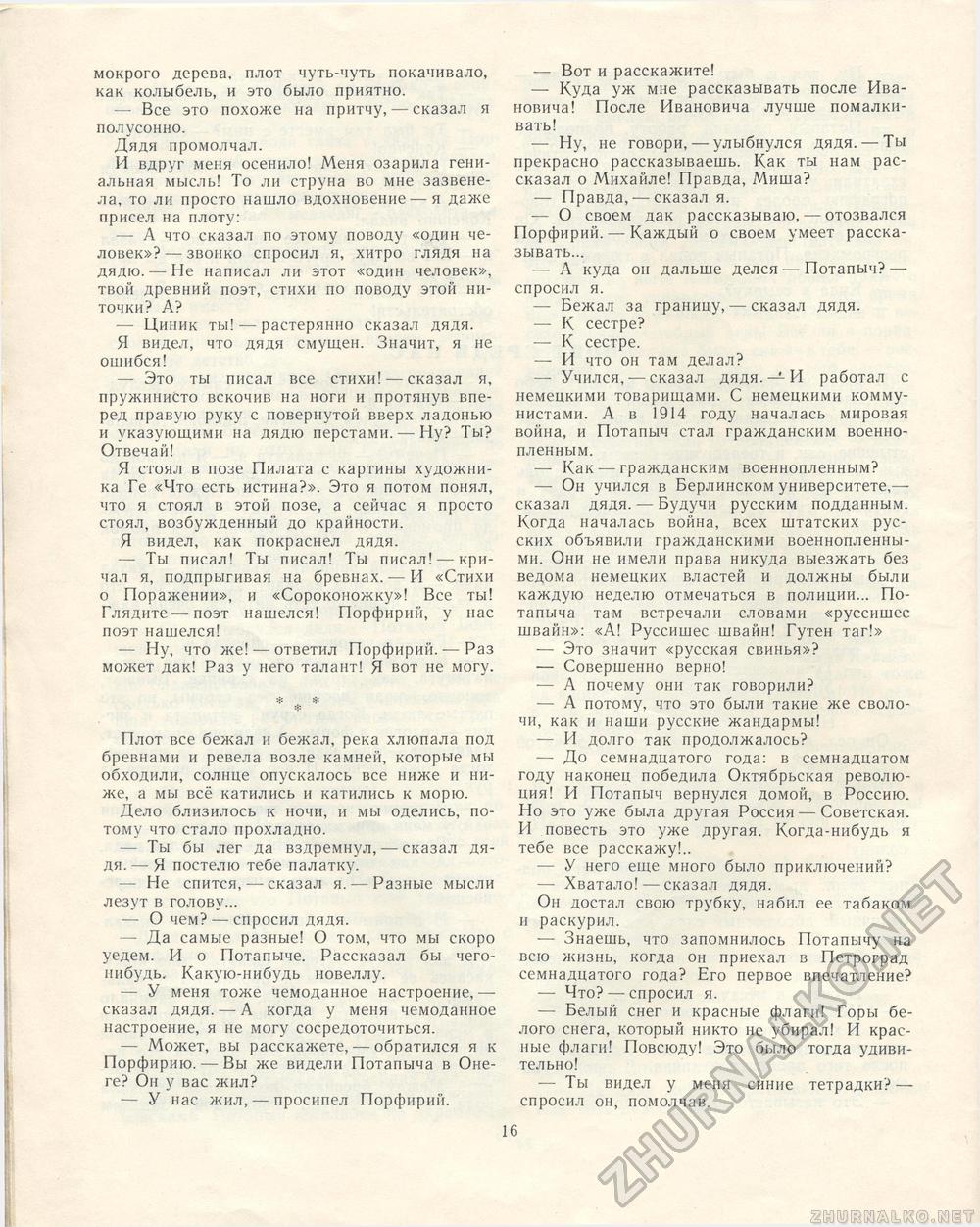
мокрого дерева, плот чуть-чуть покачивало, как колыбель, и это было приятно. — Все это похоже на притчу, — сказал я полусонно. Дядя промолчал. И вдруг меня осенило! Меня озарила гениальная мысль! То ли струна во мне зазвенела, то ли просто нашло вдохновение — я даже присел на плоту: — А что сказал по этому поводу «один человек»?— звонко спросил я, хитро глядя на дядю. — Не написал ли этот «один человек», U О о твои древнии поэт, стихи по поводу этой ниточки? А? — Циник ты! — растерянно сказал дядя. Я видел, что дядя смущен. Значит, я не ошибся! — Это ты писал все стихи! — сказал я, пружинисто вскочив на ноги и протянув вперед правую руку с повернутой вверх ладонью и указующими на дядю перстами. — Ну? Ты? Отвечай! Я стоял в позе Пилата с картины художника Ге «Что есть истина?». Это я потом понял, что я стоял в этой позе, а сейчас я просто стоял, возбужденный до крайности. Я видел, как покраснел дядя. — Ты писал! Ты писал! Ты писал! — кричал я, подпрыгивая на бревнах. — И «Стихи о Поражении», и «Сороконожку»! Все ты! Глядите—поэт нашелся! Порфирий, у нас поэт нашелся! — Ну, что же! — ответил Порфирий. — Раз может дак! Раз у него талант! Я вот не могу. * * * Плот все бежал и бежал, река хлюпала под бревнами и ревела возле камней, которые мы обходили, солнце опускалось все ниже и ни- же, а мы все катились и катились к морю. Дело близилось к ночи, и мы оделись, потому что стало прохладно. — Ты бы лег да вздремнул, — сказал дядя. — Я постелю тебе палатку. — Не спится, — сказал я. — Разные мысли лезут в голову... — О чем? — спросил дядя. — Да самые разные! О том, что мы скоро уедем. И о Потапыче. Рассказал бы чего-нибудь. Какую-нибудь новеллу. — У меня тоже чемоданное настроение,— сказал дядя. — А когда у меня чемоданное настроение, я не могу сосредоточиться. — Может, вы расскажете, — обратился я к Порфирию. — Вы же видели Потапыча в Онеге? Он у вас жил? — У нас жил, — просипел Порфирий. — Вот и расскажите! — Куда уж мне рассказывать после Ивановича! После Ивановича лучше помалкивать! Ну, не говори, — улыбнулся дядя. — Ты прекрасно рассказываешь. Как ты нам рассказал о Михайле! Правда, Миша? — Правда, — сказал я. — О своем дак рассказываю, — отозвался Порфирий. — Каждый о своем умеет рассказывать... — А куда он дальше делся — Потапыч? — спросил я. — Бежал за границу, — сказал дядя. — К сестре? — К сестре. — И что он там делал? — Учился, — сказал дядя. —И работал с немецкими товарищами. С немецкими коммунистами. А в 1914 году началась мировая война, и Потапыч стал гражданским военнопленным. — Как — гражданским военнопленным? — Он учился в Берлинском университете,— сказал дядя. — Будучи русским подданным. Когда началась война, всех штатских русских объявили гражданскими военнопленными. Они не имели права никуда выезжать без ведома немецких властей и должны были каждую неделю отмечаться в полиции... Потапыча там встречали словами «руссишес швайн»: «А! Руссишес швайн! Гутен таг!» — Это значит «русская свинья»? — Совершенно верно! — А почему они так говорили? — А потому, что это были такие же сволочи, как и наши русские жандармы! — И долго так продолжалось? — До семнадцатого года: в семнадцатом году наконец победила Октябрьская революция! И Потапыч вернулся домой, в Россию. Но это уже была другая Россия — Советская. И повесть это уже другая. Когда-нибудь я тебе все расскажу!.. У него еще много было приключений? — Хватало! — сказал дядя. Он достал свою трубку, набил ее табаком и раскурил. — Знаешь, что запомнилось Потапычу на всю жизнь, когда он приехал в Петроград семнадцатого года? Его первое впечатление? — Что? — спросил я. — Белый снег и красные флаги! Горы белого снега, который никто не убирал! Й красные флаги! Повсюду! Это было тогда удивительно! Ф — Ты видел у меня синие тетрадки? — спросил он, помолчав. 16 |








