Костёр 1972-05, страница 23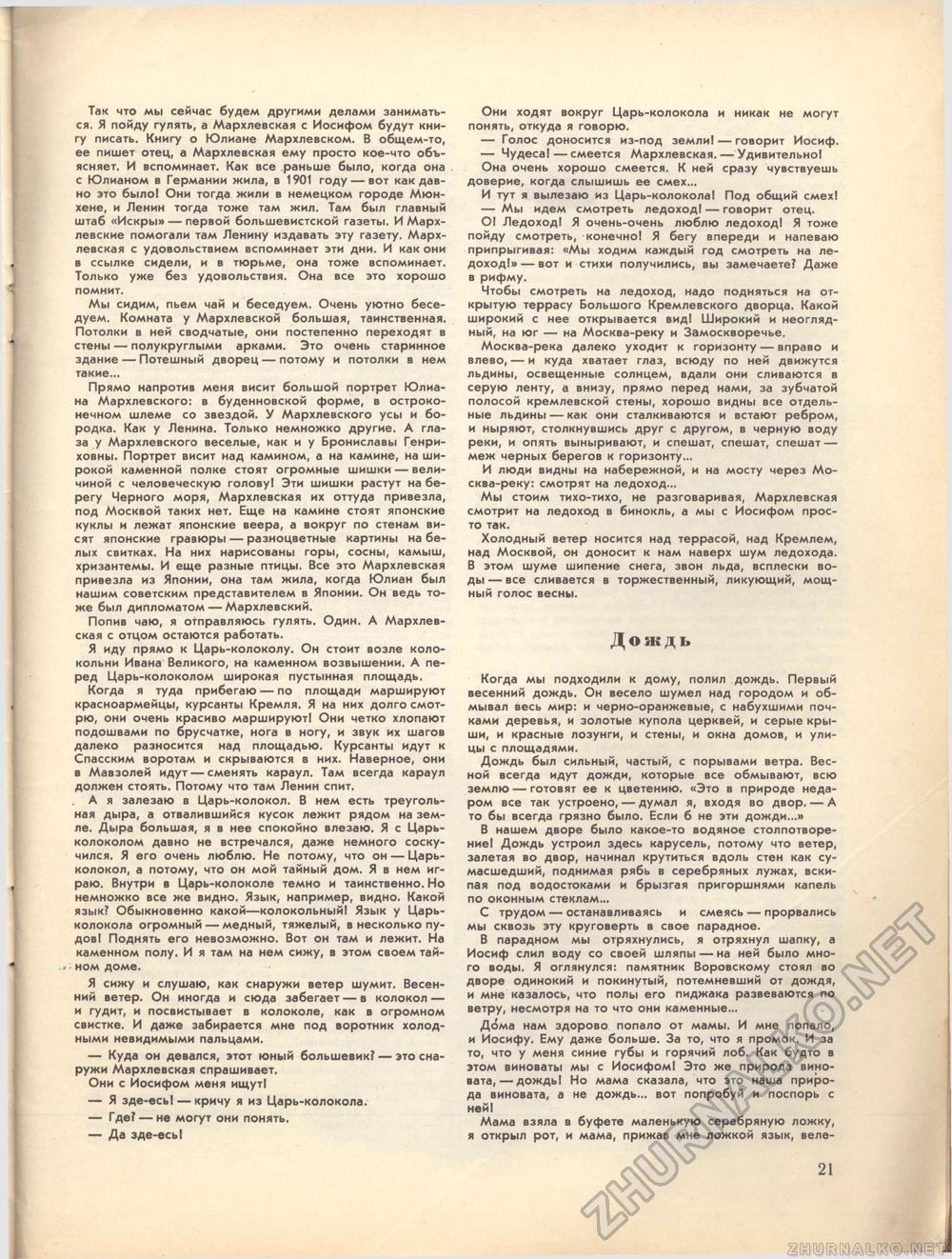
Так что мы сейчас будем другими делами заниматься. Я пойду гулять, а Мархлевская с Иосифом будут книгу писать. Книгу о Юлиане Мархлевском. В общем-то, ее пишет отец, а Мархлевская ему просто кое-что объясняет. И вспоминает. Как все раньше было, когда она с Юлианом в Германии жила, в 1901 году — вот как давно это было! Они тогда жили в немецком городе Мюнхене, и Ленин тогда тоже там жил. Там был главный штаб «Искры» — первой большевистской газеты. И Мархлевские помогали там Ленину издавать эту газету. Мархлевская с удовольствием вспоминает эти дни. И как они в ссылке сидели, и в тюрьме, она тоже вспоминает. Только уже без удовольствия. Она все это хорошо помнит. Мы сидим, пьем чай и беседуем. Очень уютно беседуем. Комната у Мархлевской большая, таинственная. Потолки в ней сводчатые, они постепенно переходят в стены — полукруглыми арками. Это очень старинное здание — Потешный дворец — потому и потолки в нем такие... Прямо напротив меня висит большой портрет Юлиана Мархлевского: в буденновской форме, в остроконечном шлеме со звездой. У Мархлевского усы и бородка. Как у Ленина. Только немножко другие. А глаза у Мархлевского веселые, как и у Брониславы Генри-ховны. Портрет висит над камином, а на камине, на широкой каменной полке стоят огромные шишки — величиной с человеческую голову! Эти шишки растут на берегу Черного моря, Мархлевская их оттуда привезла, под Москвой таких нет. Еще на камине стоят японские куклы и лежат японские веера, а вокруг по стенам висят японские гравюры — разноцветные картины на белых свитках. На них нарисованы горы, сосны, камыш, хризантемы. И еще разные птицы. Все это Мархлевская привезла из Японии, она там жила, когда Юлиан был нашим советским представителем в Японии. Он ведь тоже был дипломатом — Мархлевский. Попив чаю, я отправляюсь гулять. Один. А Мархлевская с отцом остаются работать. Я иду прямо к Царь-колоколу. Он стоит возле колокольни Ивана Великого, на каменном возвышении. А перед Царь-колоколом широкая пустынная площадь. Когда я туда прибегаю — по площади маршируют красноармейцы, курсанты Кремля. Я на них долго смотрю, они очень красиво маршируют! Они четко хлопают подошвами по брусчатке, нога в ногу, и звук их шагов далеко разносится над площадью. Курсанты идут к Спасским воротам и скрываются в них. Наверное, они в Мавзолей идут — сменять караул. Там всегда караул должен стоять. Потому что там Ленин спит. А я залезаю в Царь-колокол. В нем есть треугольная дыра, а отвалившийся кусок лежит рядом на земле. Дыра большая, я в нее спокойно влезаю. Я с Царь-колоколом давно не встречался, даже немного соскучился. Я его очень люблю. Не потому, что он — Царь-колокол, а потому, что он мой тайный дом. Я в нем играю. Внутри в Царь-колоколе темно и таинственно. Но немножко все же видно. Язык, например, видно. Какой язык? Обыкновенно какой—колокольный! Язык у Царь-колокола огромный — медный, тяжелый, в несколько пудов! Поднять его невозможно. Вот он там и лежит. На каменном полу. И я там на нем сижу, в этом своем тайном доме. Я сижу и слушаю, как снаружи ветер шумит. Весенний ветер. Он иногда и сюда забегает — в колокол — и гудит, и посвистывает в колоколе, как в огромном свистке. И даже забирается мне под воротник холодными невидимыми пальцами. — Куда он девался, этот юный большевик? — это снаружи Мархлевская спрашивает. Они с Иосифом меня ищут! — Я зде-есь! — кричу я из Царь-колокола. — Где? — не могут они понять. — Да зде-есь! Они ходят вокруг Царь-колокола и никак не могут понять, откуда я говорю. — Голос доносится из-под земли! — говорит Иосиф. — Чудеса! — смеется Мархлевская. — Удивительно! Она очень хорошо смеется. К ней сразу чувствуешь доверие, когда слышишь ее смех... И тут я вылезаю из Царь-колокола! Под общий смех! — Мы идем смотреть ледоход! — говорит отец. О! Ледоход! Я очень-очень люблю ледоход! Я тоже пойду смотреть, конечно! Я бегу впереди и напеваю припрыгивая: «Мы ходим каждый год смотреть на ледоход!» — вот и стихи получились, вы замечаете? Даже в рифму. Чтобы смотреть на ледоход, надо подняться на открытую террасу Большого Кремлевского дворца. Какой широкий с нее открывается вид! Широкий и неоглядный, на юг — на Москва-реку и Замоскворечье. Москва-река далеко уходит к горизонту — вправо и влево, — и куда хватает глаз, всюду по ней движутся льдины, освещенные солнцем, вдали они сливаются в серую ленту, а внизу, прямо перед нами, за зубчатой полосой кремлевской стены, хорошо видны все отдельные льдины — как они сталкиваются и встают ребром, и ныряют, столкнувшись друг с другом, в черную воду реки, и опять выныривают, и спешат, спешат, спешат — меж черных берегов к горизонту... И люди видны на набережной, и на мосту через Москва-реку: смотрят на ледоход... Мы стоим тихо-тихо, не разговаривая, Мархлевская смотрит на ледоход в бинокль, а мы с Иосифом просто так. Холодный ветер носится над террасой, над Кремлем, над Москвой, он доносит к нам наверх шум ледохода. В этом шуме шипение снега, звон льда, всплески воды — все сливается в торжественный, ликующий, мощный голос весны. ДождьКогда мы подходили к дому, полил дождь. Первый весенний дождь. Он весело шумел над городом и обмывал весь мир: и черно-оранжевые, с набухшими почками деревья, и золотые купола церквей, и серые крыши, и красные лозунги, и стены, и окна домов, и улицы с площадями. Дождь был сильный, частый, с порывами ветра. Весной всегда идут дожди, которые все обмывают, всю землю — готовят ее к цветению. «Это в природе недаром все так устроено, — думал я, входя во двор. — А то бы всегда грязно было. Если б не эти дожди...» В нашем дворе было какое-то водяное столпотворение! Дождь устроил здесь карусель, потому что ветер, залетая во двор, начинал крутиться вдоль стен как сумасшедший, поднимая рябь в серебряных лужах, вскипая под водостоками и брызгая пригоршнями капель по оконным стеклам... С трудом — останавливаясь и смеясь — прорвались мы сквозь эту круговерть в свое парадное. В парадном мы отряхнулись, я отряхнул шапку, а Иосиф слил воду со своей шляпы — на ней было много воды. Я оглянулся: памятник Воровскому стоял во дворе одинокий и покинутый, потемневший от дождя, и мне казалось, что полы его пиджака развеваются по ветру, несмотря на то что они каменные... Дома нам здорово попало от мамы. И мне попало, и Иосифу. Ему даже больше. За то, что я промок. И за то, что у меня синие губы и горячий лоб. Как будто в этом виноваты мы с Иосифом! Это же природа виновата,— дождь! Но мама сказала, что это наша природа виновата, а не дождь... вот попробуй и поспорь с ней! Мама взяла в буфете маленькую серебряную ложку, я открыл рот, и мама, прижав мне ложкой язык, веле 21 |








