Костёр 1986-08, страница 25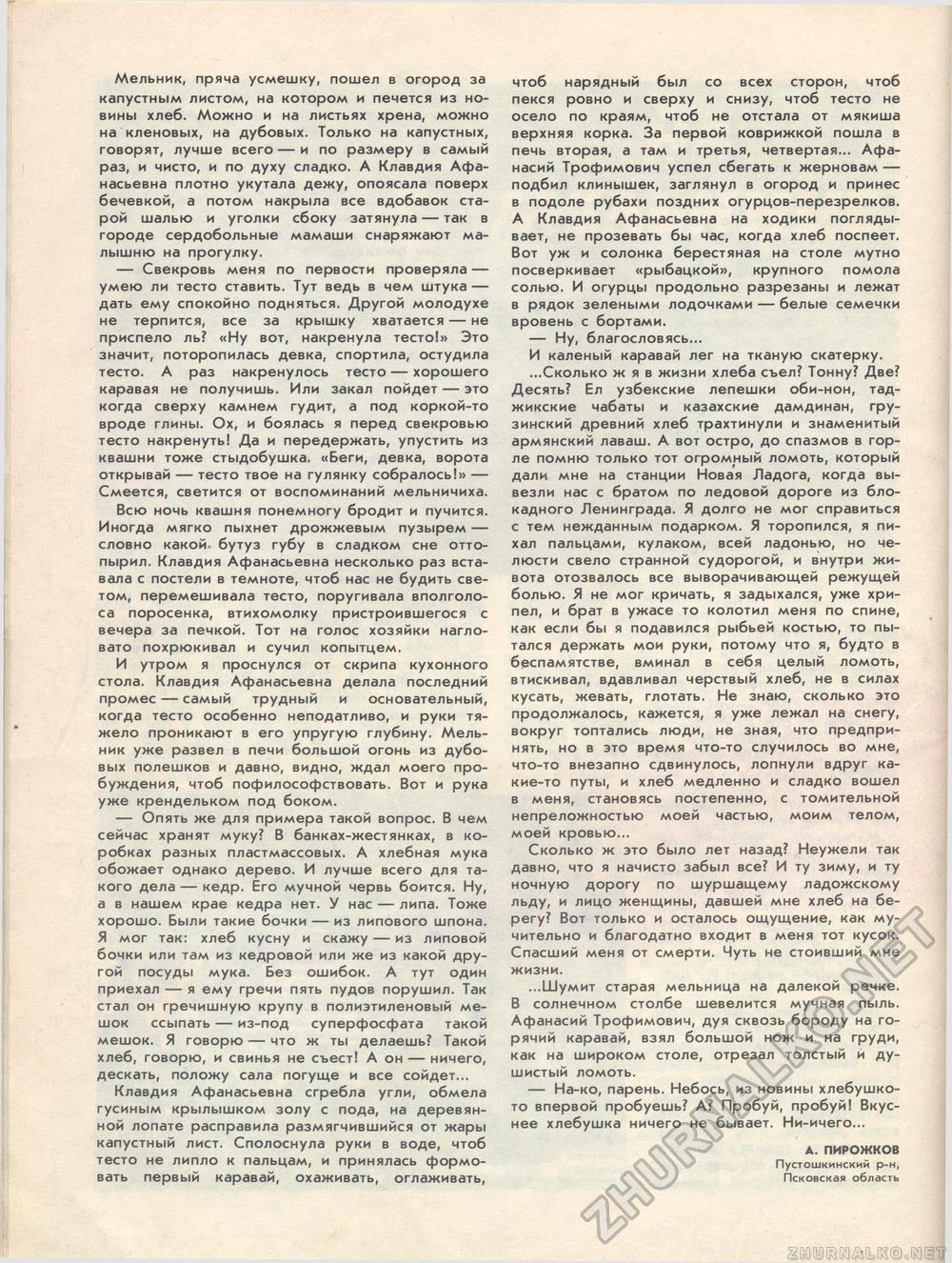
Мельник, пряча усмешку, пошел в огород за капустным листом, на котором и печется из новины хлеб. Можно и на листьях хрена, можно на кленовых, на дубовых. Только на капустных, говорят, лучше всего — и по размеру в самый раз, и чисто, и по духу сладко. А Клавдия Афанасьевна плотно укутала дежу, опоясала поверх бечевкой, а потом накрыла все вдобавок старой шалью и уголки сбоку затянула — так в городе сердобольные мамаши снаряжают малышню на прогулку. — Свекровь меня по первости проверяла — умею ли тесто ставить. Тут ведь в чем штука — дать ему спокойно подняться. Другой молодухе не терпится, все за крышку хватается — не приспело ль? «Ну вот, накренула тесто!» Это значит, поторопилась девка, спортила, остудила тесто. А раз накренулось тесто — хорошего каравая не получишь. Или закал пойдет — это когда сверху камнем гудит, а под коркой-то вроде глины. Ох, и боялась я перед свекровью тесто накренуть! Да и передержать, упустить из квашни тоже стыдобушка. «Беги, девка, ворота открывай — тесто твое на гулянку собралось!» — Смеется, светится от воспоминаний мельничиха. Всю ночь квашня понемногу бродит и пучится. Иногда мягко пыхнет дрожжевым пузырем — словно какой, бутуз губу в сладком сне оттопырил. Клавдия Афанасьевна несколько раз вставала с постели в темноте, чтоб нас не будить светом, перемешивала тесто, поругивала вполголоса поросенка, втихомолку пристроившегося с вечера за печкой. Тот на голос хозяйки нагловато похрюкивал и сучил копытцем. И утром я проснулся от скрипа кухонного стола. Клавдия Афанасьевна делала последний промес — самый трудный и основательный, когда тесто особенно неподатливо, и руки тяжело проникают в его упругую глубину. Мельник уже развел в печи большой огонь из дубовых полешков и давно, видно, ждал моего пробуждения, чтоб пофилософствовать. Вот и рука уже крендельком под боком. — Опять же для примера такой вопрос. В чем сейчас хранят муку? В банках-жестянках, в коробках разных пластмассовых. А хлебная мука обожает однако дерево. И лучше всего для такого дела — кедр. Его мучной червь боится. Ну, а в нашем крае кедра нет. У нас — липа. Тоже хорошо. Были такие бочки — из липового шпона. Я мог так: хлеб кусну и скажу — из липовой бочки или там из кедровой или же из какой другой посуды мука. Без ошибок. А тут один приехал — я ему гречи пять пудов порушил. Так стал он гречишную крупу в полиэтиленовый мешок ссыпать — из-под суперфосфата такой мешок. Я говорю — что ж ты делаешь? Такой хлеб, говорю, и свинья не съест! А он — ничего, дескать, положу сала погуще и все сойдет... Клавдия Афанасьевна сгребла угли, обмела гусиным крылышком золу с пода, на деревянной лопате расправила размягчившийся от жары капустный лист. Сполоснула руки в воде, чтоб тесто не липло к пальцам, и принялась формовать первый каравай, охаживать, оглаживать, чтоб нарядный был со всех сторон, чтоб пекся ровно и сверху и снизу, чтоб тесто не осело по краям, чтоб не отстала от мякиша верхняя корка. За первой коврижкой пошла в печь вторая, а там и третья, четвертая... Афанасий Трофимович успел сбегать к жерновам — подбил клинышек, заглянул в огород и принес в подоле рубахи поздних огурцов-перезрелков. А Клавдия Афанасьевна на ходики поглядывает, не прозевать бы час, когда хлеб поспеет. Вот уж и солонка берестяная на столе мутно посверкивает «рыбацкой», крупного помола солью. И огурцы продольно разрезаны и лежат в рядок зелеными лодочками — белые семечки вровень с бортами. — Ну, благословясь... И каленый каравай лег на тканую скатерку. ...Сколько ж я в жизни хлеба съел? Тонну? Две? Десять? Ел узбекские лепешки оби-нон, таджикские чабаты и казахские дамдинан, грузинский древний хлеб трахтинули и знаменитый армянский лаваш. А вот остро, до спазмов в горле помню только тот огромный ломоть, который дали мне на станции Новая Ладога, когда вывезли нас с братом по ледовой дороге из блокадного Ленинграда. Я долго не мог справиться с тем нежданным подарком. Я торопился, я пихал пальцами, кулаком, всей ладонью, но че- л люсти свело странной судорогой, и внутри живота отозвалось все выворачивающей режущей болью. Я не мог кричать, я задыхался, уже хрипел, и брат в ужасе то колотил меня по спине, как если бы я подавился рыбьей костью, то пытался держать мои руки, потому что я, будто в беспамятстве, вминал в себя целый ломоть, втискивал, вдавливал черствый хлеб, не в силах кусать, жевать, глотать. Не знаю, сколько это продолжалось, кажется, я уже лежал на снегу, вокруг топтались люди, не зная, что предпринять, но в это время что-то случилось во мне, что-то внезапно сдвинулось, лопнули вдруг ка-кие-то путы, и хлеб медленно и сладко вошел в меня, становясь постепенно, с томительной непреложностью моей частью, моим телом, моей кровью... Сколько ж это было лет назад? Неужели так давно, что я начисто забыл все? И ту зиму, и ту ночную дорогу по шуршащему ладожскому льду, и лицо женщины, давшей мне хлеб на берегу? Вот только и осталось ощущение, как мучительно и благодатно входит в меня тот кусок. Спасший меня от смерти. Чуть не стоивший мне жизни. ...Шумит старая мельница на далекой речке. В солнечном столбе шевелится мучная пыль. Афанасий Трофимович, дуя сквозь бороду на горячий каравай, взял большой нож и на груди, как на широком столе, отрезал толстый и душистый ломоть. — На-ко, парень. Небось, из новины хлебушко-то впервой пробуешь? А? Пробуй, пробуй! Вкуснее хлебушка ничего не бывает. Ни-ичего... А. ПИРОЖКОВ Пустошкинский р-н, Псковская область 25 |








