Пионер 1989-10, страница 53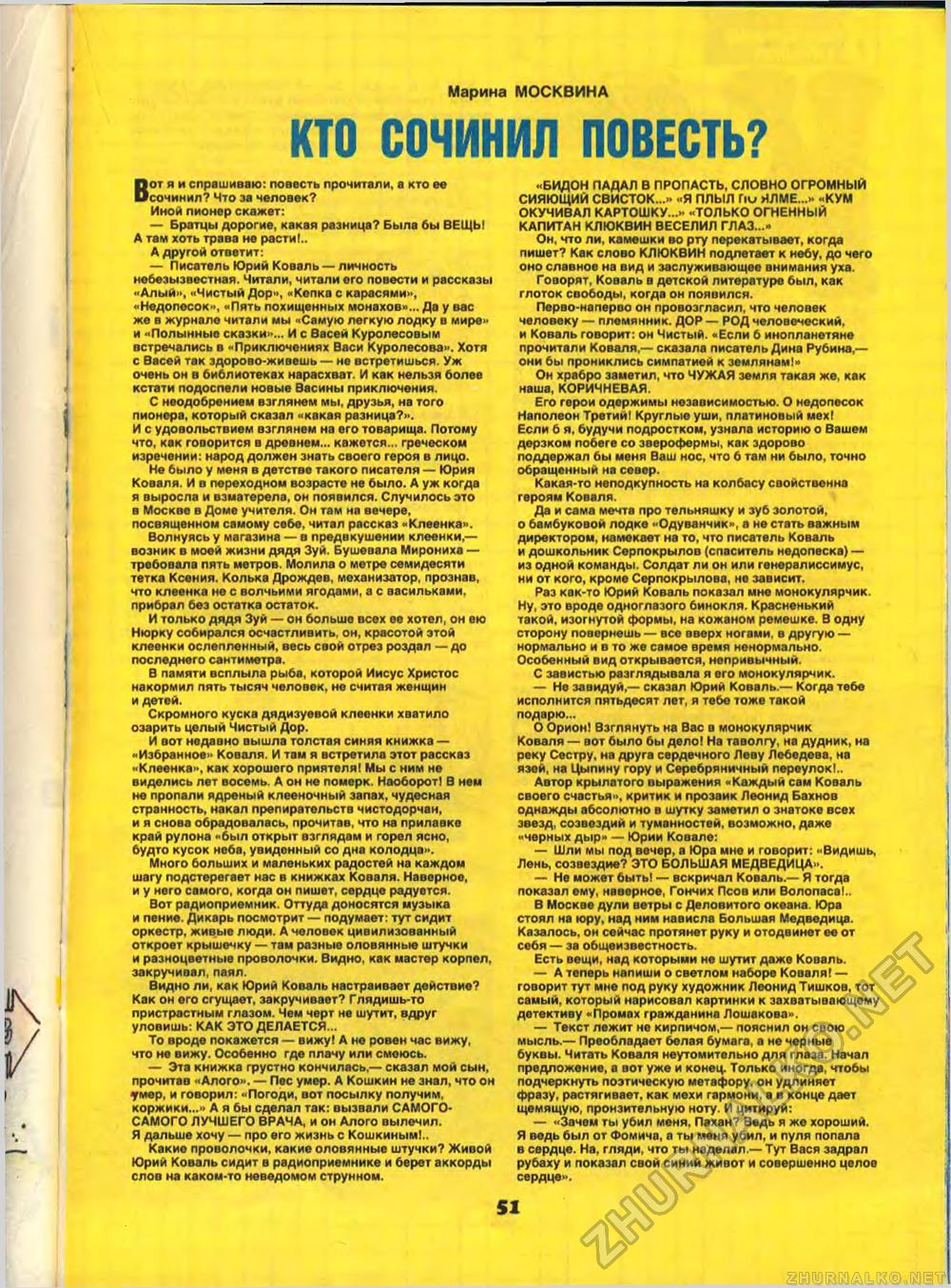
Марина МОСКВИНА КТО СОЧИНИЛ ПОВЕСТЬ? Вот я и спрашиваю: повесть прочитали, а кто ее сочинил? Что за человек? Иной пионер скажет: — Братцы дорогие, какая разница? Была бы ВЕЩЬ! А там хоть трава не расти!.. А другой ответит: — Писатель Юрий Коваль — личность небезызвестная. Читали, читали его повести и рассказы «Алый», «Чистый Дор», «Копка с карасями», «Недопесок», «Пять похищенных монахов»... Да у вас же в журнале читали мы «Самую легкую лодку в мире» и «Полынные сказки»... И с Васей Куропесовым встречались в «Приключениях Васи Куролесова». Хотя с Васей так здорово-живешь — не встретишься. Уж очень он в библиотеках нарасхват. И как нельзя более кстати подоспели новые Васины приключения. С неодобрением взглянем мы, друзья, на того пионера, который сказал «какая разница?». И с удовольствием взглянем на его товарища. Потому что, как говорится в древнем... кажется... греческом изречении: народ должен знать своего героя в лицо. Но было у меня в детстве такого писателя — Юрия Коваля. И в переходном возрасте не было. А уж когда я выросла и взматерела, он появился. Случилось это в Москве в Доме учителя. Он там на вечере, посвященном самому себе, читал рассказ «Клеенка». Волнуясь у магазина — в предвкушении клеенки,— возник в моей жизни дядя Зуй. Бушевала Мирониха — требовала пять метров. Молила о метре семидесяти тетка Ксения. Колька Дрождев, моханизатор, прознав, что клеенка не с волчьими ягодами, а с васильками, прибрал без остатка остаток. И только дядя Зуй — он больше всех ее хотел, он ею Нюрку собирался осчастливить, он, красотой этой клеенки ослепленный, весь свой отрез роздал — до последнего сантиметра. В памяти всплыла рыба, которой Иисус Христос накормил пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Скромного куска дядизуевой клеенки хватило озарить целый Чистый Дор. И вот недавно вышла толстая синяя книжка — «Избранное» Коваля. И там я встретила этот рассказ «Клеенка», как хорошего приятеля! Мы с ним не виделись лет восемь. А он не померк. Наоборот) В нем не пропали ядреный клееночный запах, чудесная странность, накал препирательств чистодорчан, и я снова обрадовалась, прочитав, что на прилавке край рулона «был открыт взглядам и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца». Много больших и маленьких радостей на каждом шагу подстерегает нас в книжках Коваля. Наверное, и у него самого, когда он пишет, сердце радуется. Вот радиоприемник. Оттуда доносятся музыка и пение. Дикарь посмотрит — подумает: тут сидит оркестр, живые люди. А человек цивилизованный откроет крышечку — там разные оловянные штучки и разноцветные проволочки. Видно, как мастер корпел, закручивал, паял. Видно ли, как Юрий Коваль настраивает действие? Как он его сгущает, закручивает? Глядишь-то пристрастным глазом. Чем черт не шутит, вдруг уловишь: КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ... То вроде покажется — вижу! А не ровен час вижу, что не вижу. Особенно где ппачу или смеюсь. — Эта книжка грустно кончилась,— сказал мой сын, прочитав «Алого». — Пес умер. А Кошкин не знал, что он умер, и говорил: «Погоди, вот посылку получим, коржики...» А я бы сделал так: вызвали САМОГО-САМОГО ЛУЧШЕГО ВРАЧА, и он Алого вылечил. Я дальше хочу — про его жизнь с Кошкиным!.. Какие проволочки, какие оловянные штучки? Живой Юрий Коваль сидит в радиоприемнике и берет аккорды слов на каком-то неведомом струнном. «БИДОН ПАДАЛ В ПРОПАСТЬ. СЛОВНО ОГРОМНЫЙ СИЯЮЩИЙ СВИСТОК...»» «Я ПЛЫЛ Гю НЛМЕ...» «КУМ ОКУЧИВАЛ КАРТОШКУ...» «ТОЛЬКО ОГНЕННЫЙ КАПИТАН КЛЮКВИН ВЕСЕЛИЛ ГЛАЗ...» Он, что ли, камешки во рту перекатывает, когда пишет? Как слово КЛЮКВИН подлетает к небу, до чего оно славное на вид и заслуживающее внимания уха. Говорят, Коваль в детской литературе был, как глоток свободы, когда он появился. Перво-наперво он провозгласил, что человек человеку — племянник. ДОР — РОД человеческий, и Коваль говорит: он Чистый. «Если б инопланетяне прочитали Коваля,— сказала писатель Дина Рубина,— они бы прониклись симпатией к землянам!» Он храбро заметил, что ЧУЖАЯ земля такая же, как наша, КОРИЧНЕВАЯ. Его герои одержимы независимостью. О недопесок Наполеон Третий! Круглые уши, платиновый мех! Если б я, будучи подростком, узнала историю о Вашем дерзком побеге со зверофермы, как здорово подаержал бы меня Ваш нос, что б там ни было, точно обращенный на север. Какая-то неподкупность на колбасу свойственна героям Коваля. Да и сама мечта про тельняшку и зуб золотой, о бамбуковой лодке «Одуванчик», а не стать важным директором, намекает на то, что писатель Коваль и дошкольник Серпокрылов (спаситель недопеска) — из одной команды. Солдат ли он или генералиссимус, ни от кого, кроме Серпокрылова, но зависит. Раз как-то Юрий Коваль показал мне монокулярчик. Ну, это вроде одноглазого бинокля. Красненький такой, изогнутой формы, на кожаном ремешке. В одну сторону повернешь— все вверх ногами, в другую — нормально и о то же самое время ненормально. Особенный вид открывается, непривычный. С завистью разглядывала я ого монокулярчик. — Но завидуй,— сказал Юрий Коваль.— Когда тебе исполнится пятьдесят лет, я тебе тоже такой подарю... О Орион! Взглянуть на Вас в монокулярчик Коваля — вот было бы дело! На таволгу, на дудник, на реку Сестру, на друга сердечного Леву Лебедова, на язей, на Цыпину гору и Серебряничный пероулок!.. Автор крылатого выражения «Каждый сам Коваль своего счастья-», критик и прозаик Леонид Бахнов однажды абсолютно в шутку заметил о знатоке всех звезд, созвездий и туманностей, возможно, даже «черных дыр» — Юрии Ковале: — Шли мы под вечер, а Юра мне и говорит: «Видишь, Лень, созвездие? ЭТО БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА». — Не может быть! — вскричал Коваль.— Я тогда показал ему, наверное, Гончих Псов или Волопаса!.. В Москве дули ветры с Деловитого океана. Юра стоял на юру, над ним нависла Большая Медведица. Казалось, он сейчас протянет руку и отодвинет ее от себя — за общеизвестность. Есть вещи, над которыми не шутит даже Коваль. — А теперь напиши о светлом наборе Коваля! — говорит тут мне под руку художник Леонид Тишков, тот самый, который нарисовал картинки к захватывающему детективу «Промах гражданина Лошакова». — Текст лежит но кирпичом,— пояснил он свою мысль.— Преобладает белая бумага, а не черные буквы. Читать Коваля неутомительно для глаза. Начал предложение, а вот уже и конец. Только иногда, чтобы подчеркнуть поэтическую метафору, он удлиняет фразу, растягивает, как мехи гармони, а в конце дает щемящую, пронзительную ноту. И цитируй: — «Зачем ты убил меня, Пахан? Ведь я же хороший. Я водь был от Фомича, а ты меня убил, и пуля попала в сердце. На, гляди, что ты наделал — Тут Вася задрал рубаху и показал свой синий живот и совершенно целое сердце»-. 51 |








