Костёр 1967-12, страница 13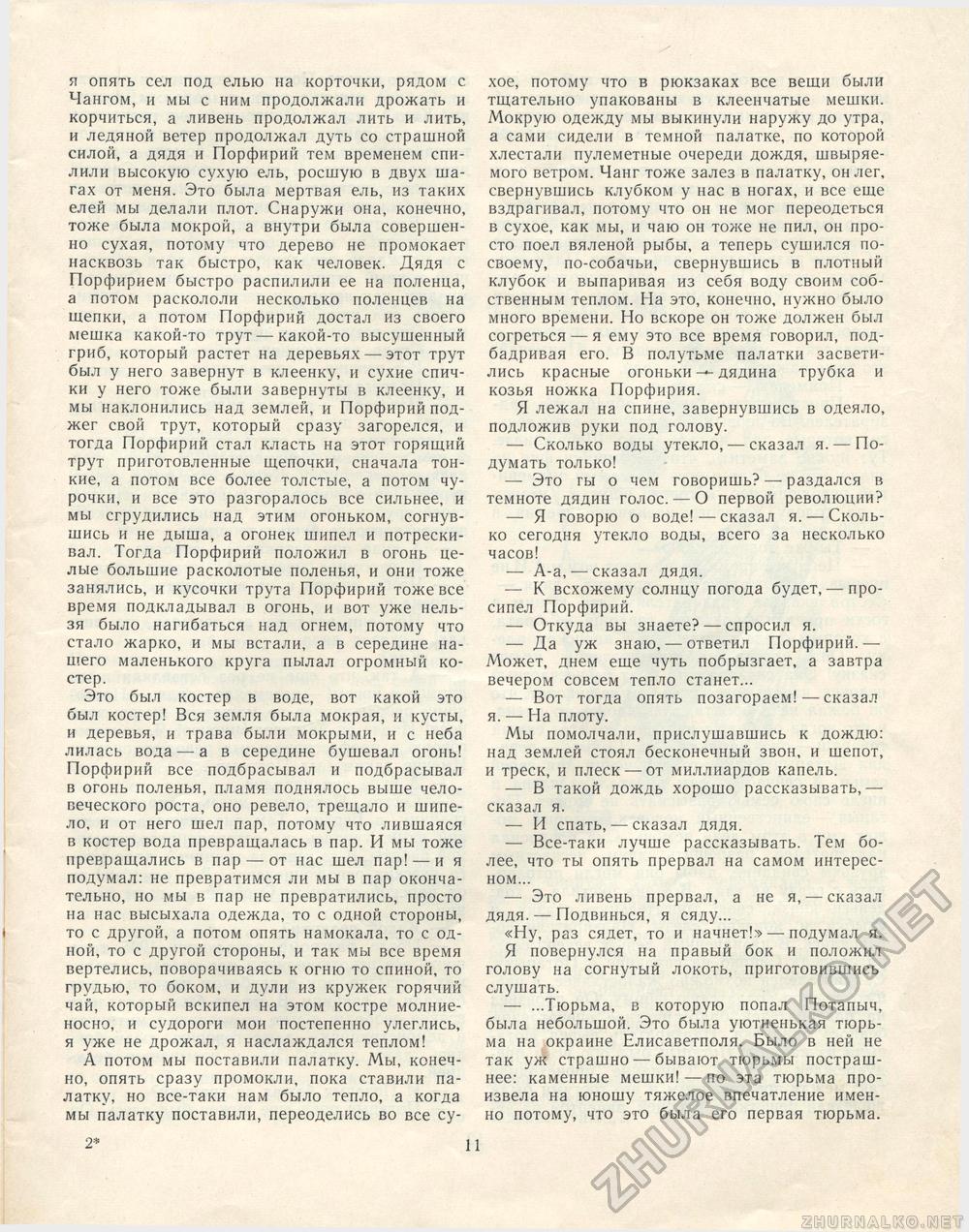
я опять сел под елью на корточки, рядом с Чангом, и мы с ним продолжали дрожать и корчиться, а ливень продолжал лить и лить, и ледяной ветер продолжал дуть со страшной силой, а дядя и Порфирий тем временем спилили высокую сухую ель, росшую в двух шагах от меня. Это была мертвая ель, из таких елей мы делали плот. Снаружи она, конечно, тоже была мокрой, а внутри была совершенно сухая, потому что дерево не промокает насквозь так быстро, как человек. Дядя с Порфирием быстро распилили ее на поленца, а потом раскололи несколько поленцев на щепки, а потом Порфирий достал из своего мешка какой-то трут — какой-то высушенный гриб, который растет на деревьях — этот трут был у него завернут в клеенку, и сухие спички у него тоже были завернуты в клеенку, и мы наклонились над землей, и Порфирий поджег свой трут, который сразу загорелся, и тогда Порфирий стал класть на этот горящий трут приготовленные щепочки, сначала тонкие, а потом все более толстые, а потом чурочки, и все это разгоралось все сильнее, и мы сгрудились над этим огоньком, согнувшись и не дыша, а огонек шипел и потрескивал. Тогда Порфирий положил в огонь целые большие расколотые поленья, и они тоже занялись, и кусочки трута Порфирий тоже все время подкладывал в огонь, и вот уже нельзя было нагибаться над огнем, потому что стало жарко, и мы встали, а в середине нашего маленького круга пылал огромный костер. Это был костер в воде, вот какой это был костер! Вся земля была мокрая, и кусты, и деревья, и трава были мокрыми, и с неба лилась вода — а в середине бушевал огонь! Порфирий все подбрасывал и подбрасывал в огонь поленья, пламя поднялось выше человеческого роста, оно ревело, трещало и шипело, и от него шел пар, потому что лившаяся в костер вода превращалась в пар. И мы тоже превращались в пар — от нас шел пар! — и я подумал: не превратимся ли мы в пар окончательно, но мы в пар не превратились, просто на нас высыхала одежда, то с одной стороны, < то с другой, а потом опять намокала, то с од ной, то с другой стороны, и так мы все время вертелись, поворачиваясь к огню то спиной, то грудью, то боком, и дули из кружек горячий чай, который вскипел на этом костре молниеносно, и судороги мои постепенно улеглись, я уже не дрожал, я наслаждался теплом! А потом мы поставили палатку. Мы, конечно, опять сразу промокли, пока ставили палатку, но все-таки нам было тепло, а когда мы палатку поставили, переоделись во все су хое, потому что в рюкзаках все вещи были тщательно упакованы в клеенчатые мешки. Мокрую одежду мы выкинули наружу до утра, а сами сидели в темной палатке, по которой хлестали пулеметные очереди дождя, швыряемого ветром. Чанг тоже залез в палатку, он лег, свернувшись клубком у нас в ногах, и все еще вздрагивал, потому что он не мог переодеться в сухое, как мы, и чаю он тоже не пил, он просто поел вяленой рыбы, а теперь сушился по-своему, по-собачьи, свернувшись в плотный клубок и выпаривая из себя воду своим собственным теплом. На это, конечно, нужно было много времени. Но вскоре он тоже должен был согреться — я ему это все время говорил, подбадривая его. В полутьме палатки засветились красные огоньки —- дядина трубка и козья ножка Порфирия. Я лежал на спине, завернувшись в одеяло, подложив руки под голову. — Сколько воды утекло, — сказал я. — Подумать только! — Это гы о чем говоришь? — раздался в темноте дядин голос. — О первой революции? — Я говорю о воде!—сказал я. — Сколько сегодня утекло воды, всего за несколько часов! — А-а, — сказал дядя. — К всхожему солнцу погода будет, — просипел Порфирий. — Откуда вы знаете? — спросил я. — Да уж знаю, — ответил Порфирий.— Может, днем еще чуть побрызгает, а завтра вечером совсем тепло станет... — Вот тогда опять позагораем! — сказал я. — На плоту. Мы помолчали, прислушавшись к дождю: над землей стоял бесконечный звон, и шепот, и треск, и плеск — от миллиардов капель. — В такой дождь хорошо рассказывать,— сказал я. — И спать, — сказал дядя. — Все-таки лучше рассказывать. Тем более, что ты опять прервал на самом интересном... — Это ливень прервал, а не я, — сказал дядя. — Подвинься, я сяду... «Ну, раз сядет, то и начнет!» — подумал я. Я повернулся на правый бок и положил голову на согнутый локоть, приготовившись слушать. — ...Тюрьма, в которую попал Потапыч, была небольшой. Это была уютненькая тюрьма на окраине Елисаветполя. Было в ней не так уж страшно — бывают тюрьмы постраш-нее: каменные мешки! — но эта тюрьма произвела на юношу тяжелое впечатление именно потому, что это была его первая тюрьма. 2* 11 |








