Костёр 1972-04, страница 39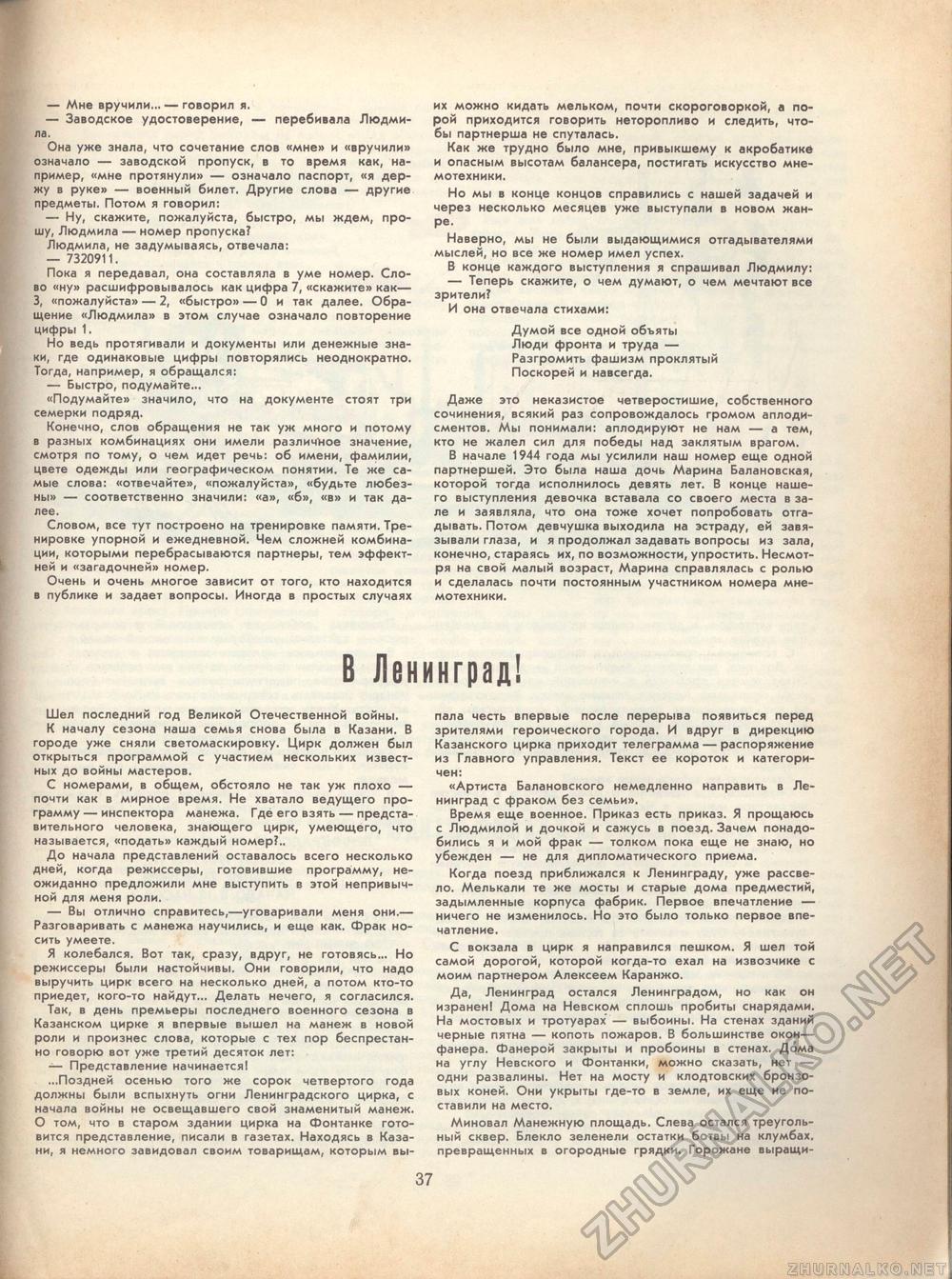
— Мне вручили... — говорил я. — Заводское удостоверение, — перебивала Людмила. Она уже знала, что сочетание слов «мне» и «вручили» означало — заводской пропуск, в то время как, например, «мне протянули» — означало паспорт, «я держу в руке» — военный билет. Другие слова — другие предметы. Потом я говорил: — Ну, скажите, пожалуйста, быстро, мы ждем, прошу, Людмила — номер пропуска? Людмила, не задумываясь, отвечала: — 7320911. Пока я передавал, она составляла в уме номер. Слово «ну» расшифровывалось как цифра 7, «скажите» как— 3, «пожалуйста» — 2, «быстро» — 0 и так далее. Обращение «Людмила» в этом случае означало повторение цифры 1. Но ведь протягивали и документы или денежные знаки, где одинаковые цифры повторялись неоднократно. Тогда, например, я обращался: — Быстро, подумайте... «Подумайте» значило, что на документе стоят три семерки подряд. Конечно, слов обращения не так уж много и потому в разных комбинациях они имели различное значение, смотря по тому, о чем идет речь: об имени, фамилии, цвете одежды или географическом понятии. Те же самые слова: «отвечайте», «пожалуйста», «будьте любезны» — соответственно значили: «а», «б», «в» и так далее. Словом, все тут построено на тренировке памяти. Тренировке упорной и ежедневной. Чем сложней комбинации, которыми перебрасываются партнеры, тем эффектней и «загадочней» номер. Очень и очень многое зависит от того, кто находится в публике и задает вопросы. Иногда в простых случаях их можно кидать мельком, почти скороговоркой, а порой приходится говорить неторопливо и следить, чтобы партнерша не спуталась. Как же трудно было мне, привыкшему к акробатике и опасным высотам балансера, постигать искусство мнемотехники. Но мы в конце концов справились с нашей задачей и через несколько месяцев уже выступали в новом жан-ре. Наверно, мы не были выдающимися отгадывателями мыслей, но все же номер имел успех. В конце каждого выступления я спрашивал Людмилу: — Теперь скажите, о чем думают, о чем мечтают все зрители? И она отвечала стихами: Думой все одной объяты Люди фронта и труда — Разгромить фашизм проклятый Поскорей и навсегда. Даже это неказистое четверостишие, собственного сочинения, всякий раз сопровождалось громом аплодисментов. Мы понимали: аплодируют не нам — а тем, кто не жалел сил для победы над заклятым врагом. В начале 1944 года мы усилили наш номер еще одной партнершей. Это была наша дочь Марина Балановская, которой тогда исполнилось девять лет. В конце нашего выступления девочка вставала со своего места в зале и заявляла, что она тоже хочет попробовать отгадывать. Потом девчушка выходила на эстраду, ей завязывали глаза, и я продолжал задавать вопросы из зала, конечно, стараясь их, по возможности, упростить. Несмотря на свой малый возраст, Марина справлялась с ролью и сделалась почти постоянным участником номера мнемотехники. В Ленинград! Шел последний год Великой Отечественной войны. К началу сезона наша семья снова была в Казани. В городе уже сняли светомаскировку. Цирк должен был открыться программой с участием нескольких известных до войны мастеров. С номерами, в общем, обстояло не так уж плохо — почти как в мирное время. Не хватало ведущего программу — инспектора манежа. Где его взять — представительного человека, знающего цирк, умеющего, что называется, «подать» каждый номер?.. До начала представлений оставалось всего несколько дней, когда режиссеры, готовившие программу, неожиданно предложили мне выступить в этой непривычной для меня роли. — Вы отлично справитесь,—уговаривали меня они.— Разговаривать с манежа научились, и еще как. Фрак носить умеете. Я колебался. Вот так, сразу, вдруг, не готовясь... Но режиссеры были настойчивы. Они говорили, что надо выручить цирк всего на несколько дней, а потом кто-то приедет, кого-то найдут... Делать нечего, я согласился. Так, в день премьеры последнего военного сезона в Казанском цирке я впервые вышел на манеж в новой роли и произнес слова, которые с тех пор беспрестанно говорю вот уже третий десяток лет: — Представление начинается! ...Поздней осенью того же сорок четвертого года должны были вспыхнуть огни Ленинградского цирка, с начала войны не освещавшего свой знаменитый манеж. О том, что в старом здании цирка на Фонтанке готовится представление, писали в газетах. Находясь в Казани, я немного завидовал своим товарищам, которым вы пала честь впервые после перерыва появиться перед зрителями героического города. И вдруг в дирекцию Казанского цирка приходит телеграмма — распоряжение из Главного управления. Текст ее короток и категоричен: «Артиста Балановского немедленно направить в Ленинград с фраком без семьи». Время еще военное. Приказ есть приказ. Я прощаюсь с Людмилой и дочкой и сажусь в поезд. Зачем понадобились я и мой фрак — толком пока еще не знаю, но убежден — не для дипломатического приема. Когда поезд приближался к Ленинграду, уже рассвело. Мелькали те же мосты и старые дома предместий, задымленные корпуса фабрик. Первое впечатление — ничего не изменилось. Но это было только первое впечатление. С вокзала в цирк я направился пешком. Я шел той самой дорогой, которой когда-то ехал на извозчике с моим партнером Алексеем Каранжо. Да, Ленинград остался Ленинградом, но как он изранен! Дома на Невском сплошь пробиты снарядами. На мостовых и тротуарах — выбоины. На стенах зданий черные пятна — копоть пожаров. В большинстве окон— фанера. Фанерой закрыты и пробоины в стенах. Дома на углу Невского и Фонтанки, можно сказать, нет — одни развалины. Нет на мосту и клодтовских бронзовых коней. Они укрыты где-то в земле, их еще не поставили на место. Миновал Манежную площадь. Слева остался треугольный сквер. Блекло зеленели остатки ботвы на клумбах, превращенных в огородные грядки. Горожане выращи 37 |








