Костёр 1977-11, страница 10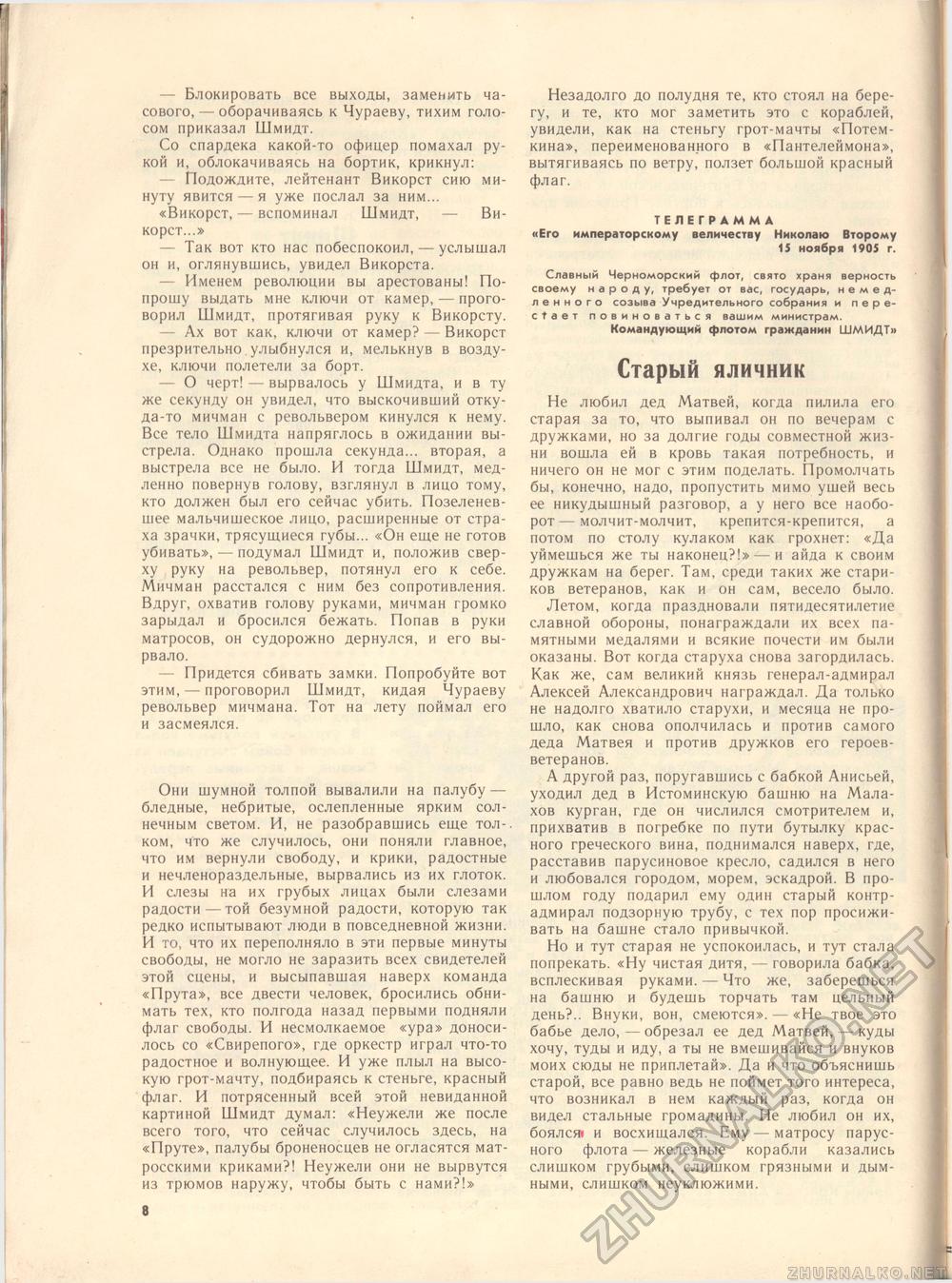
— Блокировать все выходы, заменить часового,— оборачиваясь к Чураеву, тихим голосом приказал Шмидт. Со спардека какой-то офицер помахал рукой и, облокачиваясь на бортик, крикнул: — Подождите, лейтенант Викорст сию минуту явится — я уже послал за ним... «Викорст, — вспоминал Шмидт, — Викорст...» — Так вот кто нас побеспокоил, — услышал он и, оглянувшись, увидел Викорста. — Именем революции вы арестованы! Попрошу выдать мне ключи от камер, — проговорил Шмидт, протягивая руку к Викорсту. — Ах вот как, ключи от камер? — Викорст презрительно улыбнулся и, мелькнув в воздухе, ключи полетели за борт. — О черт! — вырвалось у Шмидта, и в ту же секунду он увидел, что выскочивший откуда-то мичман с револьвером кинулся к нему. Все тело Шмидта напряглось в ожидании выстрела. Однако прошла секунда... вторая, а выстрела все не было. И тогда Шмидт, медленно повернув голову, взглянул в лицо тому, кто должен был его сейчас убить. Позеленевшее мальчишеское лицо, расширенные от страха зрачки, трясущиеся губы... «Он еще не готов убивать», — подумал Шмидт и, положив сверху руку на револьвер, потянул его к себе. Мичман расстался с ним без сопротивления. Вдруг, охватив голову руками, мичман громко зарыдал и бросился бежать. Попав в руки матросов, он судорожно дернулся, и его вырвало. — Придется сбивать замки. Попробуйте вот этим, — проговорил Шмидт, кидая Чураеву револьвер мичмана. Тот на лету поймал его и засмеялся. Они шумной толпой вывалили на палубу — бледные, небритые, ослепленные ярким солнечным светом. И, не разобравшись еще тол-, ком, что же случилось, они поняли главное, что им вернули свободу, и крики, радостные и нечленораздельные, вырвались из их глоток. И слезы на их грубых лицах были слезами радости — той безумной радости, которую так редко испытывают люди в повседневной жизни. И то, что их переполняло в эти первые минуты свободы, не могло не заразить всех свидетелей этой сцены, и высыпавшая наверх команда «Прута», все двести человек, бросились обнимать тех, кто полгода назад первыми подняли флаг свободы. И несмолкаемое «ура» доносилось со «Свирепого», где оркестр играл что-то радостное и волнующее. И уже плыл на высокую грот-мачту, подбираясь к стеньге, красный флаг. И потрясенный всей этой невиданной картиной Шмидт думал: «Неужели же после всего того, что сейчас случилось здесь, на «Пруте», палубы броненосцев не огласятся матросскими криками?! Неужели они не вырвутся из трюмов наружу, чтобы быть с нами?!» Незадолго до полудня те, кто стоял на берегу, и те, кто мог заметить это с кораблей, увидели, как на стеньгу грот-мачты «Потемкина», переименованного в «Пантелеймона», вытягиваясь по ветру, ползет большой красный флаг. ТЕЛЕГРАММА «Его императорскому величеству Николаю Второму 15 ноября 1905 г. Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, немедленного созыва Учредительного собрания и пере-ctaeT повиноваться вашим министрам. Командующий флотом гражданин ШМИДТ» Старый яличник Не любил дед Матвей, когда пилила его старая за то, что выпивал он по вечерам с дружками, но за долгие годы совместной жизни вошла ей в кровь такая потребность, и ничего он не мог с этим поделать. Промолчать бы, конечно, надо, пропустить мимо ушей весь ее никудышный разговор, а у него все наоборот—молчит-молчит, крепится-крепится, а потом по столу кулаком как грохнет: «Да уймешься же ты наконец?!» — и айда к своим дружкам на берег. Там, среди таких же стариков ветеранов, как и он сам, весело было. Летом, когда праздновали пятидесятилетие славной обороны, понаграждали их всех памятными медалями и всякие почести им были оказаны. Вот когда старуха снова загордилась. Как же, сам великий князь генерал-адмирал Алексей Александрович награждал. Да только не надолго хватило старухи, и месяца не прошло, как снова ополчилась и против самого деда Матвея и против дружков его героев-ветеранов. А другой раз, поругавшись с бабкой Анисьей, уходил дед в Истоминскую башню на Малахов курган, где он числился смотрителем и, прихватив в погребке по пути бутылку красного греческого вина, поднимался наверх, где, расставив парусиновое кресло, садился в него и любовался городом, морем, эскадрой. В прошлом году подарил ему один старый контрадмирал подзорную трубу, с тех пор просиживать на башне стало привычкой. Но и тут старая не успокоилась, и тут стала попрекать. «Ну чистая дитя, — говорила бабка, всплескивая руками. — Что же, заберешься на башню и будешь торчать там цельный день?.. Внуки, вон, смеются». — «Не твое это бабье дело, — обрезал ее дед Матвей, — куды хочу, туды и иду, а ты не вмешивайся и внуков моих сюды не приплетай». Да и что объяснишь старой, все равно ведь не поймет того интереса, что возникал в нем каждый раз, когда он видел стальные громадины. Не любил он их, боялся» и восхищался. Ему — матросу парусного флота — железные корабли казались слишком грубыми, слишком грязными и дымными, слишком неуклюжими. 8 |








