Костёр 1977-12, страница 18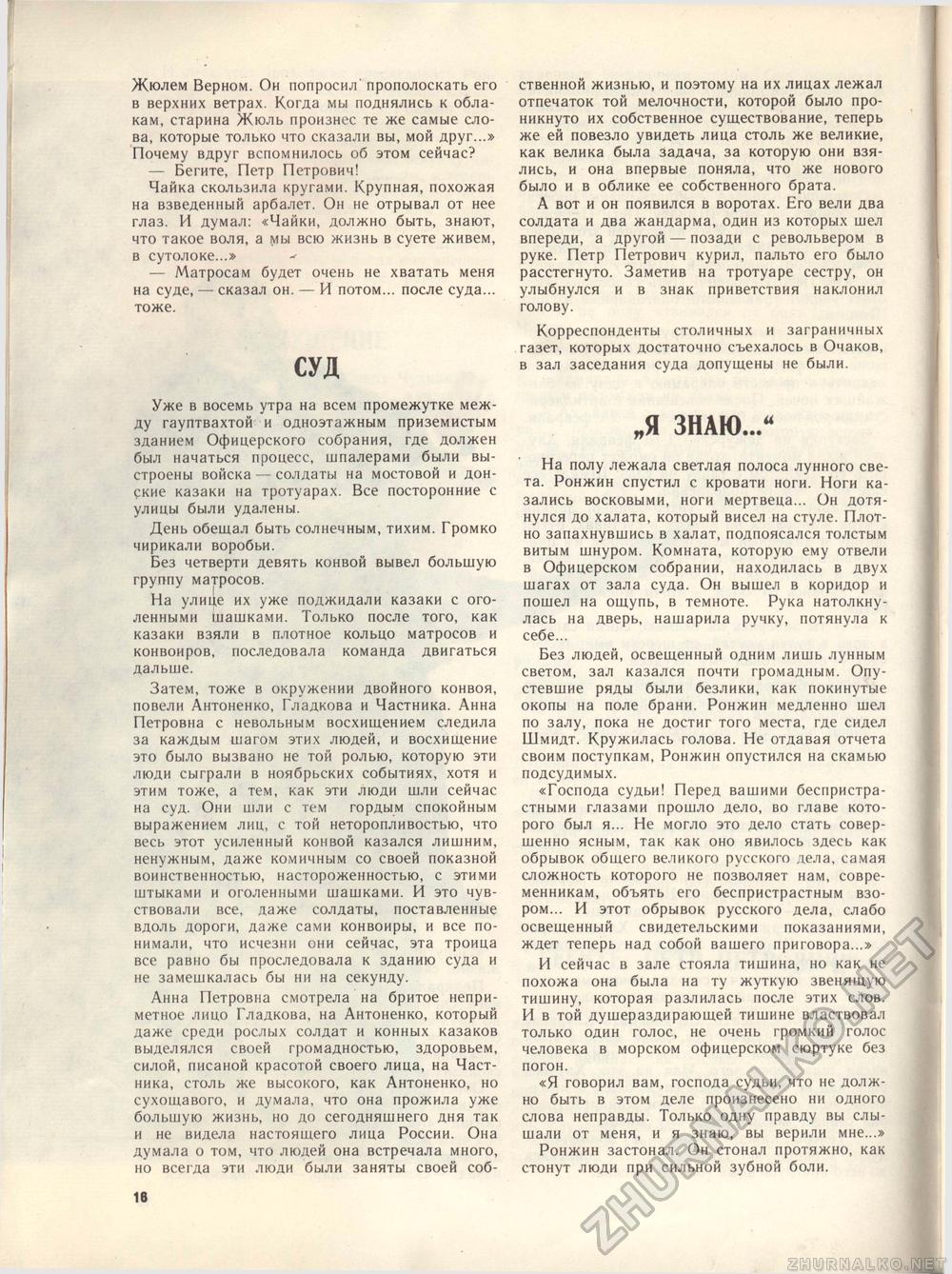
Жюлем Верном. Он попросил' прополоскать его в верхних ветрах. Когда мы поднялись к облакам, старина Жюль произнес те же самые слова, которые только что сказали вы, мой друг...» Почему вдруг вспомнилось об этом сейчас? — Бегите, Петр Петрович! Чайка скользила кругами. Крупная, похожая на взведенный арбалет. Он не отрывал от нее глаз. И думал: «Чайки, должно быть, знают, что такое воля, а мы всю жизнь в суете живем, в сутолоке...» — Матросам будет очень не хватать меня на суде, — сказал он. — И потом... после суда... тоже. СУДУже в восемь утра на всем промежутке между гауптвахтой и одноэтажным приземистым зданием Офицерского собрания, где должен был начаться процесс, шпалерами были выстроены войска — солдаты на мостовой и донские казаки на тротуарах. Все посторонние с улицы были удалены. День обещал быть солнечным, тихим. Громко чирикали воробьи. Без четверти девять конвой вывел большую группу матросов. На улице их уже поджидали казаки с оголенными Шашками. Только после того, как казаки взяли в плотное кольцо матросов и конвоиров, последовала команда двигаться дальше. Затем, тоже в окружении двойного конвоя, повели Антоненко, Гладкова и Частника. Анна Петровна с невольным восхищением следила за каждым шагом этих людей, и восхищение это было вызвано не той ролью, которую эти люди сыграли в ноябрьских событиях, хотя и этим тоже, а тем, как эти люди шли сейчас на суд. Они шли с тем гордым спокойным выражением лиц, с той неторопливостью, что весь этот усиленный конвой казался лишним, ненужным, даже комичным со своей показной воинственностью, настороженностью, с этими штыками и оголенными шашками. И это чувствовали все, даже солдаты, поставленные вдоль дороги, даже сами конвоиры, и все понимали, что исчезни они сейчас, эта троица все равно бы проследовала к зданию суда и не замешкалась бы ни на секунду. Анна Петровна смотрела на бритое неприметное лицо Гладкова, на Антоненко, который даже среди рослых солдат и конных казаков выделялся своей громадностью, здоровьем, силой, писаной красотой своего лица, на Частника, столь же высокого, как Антоненко, но сухощавого, и думала, что она прожила уже большую жизнь, но до сегодняшнего дня так и не видела настоящего лица России. Она думала о том, что людей она встречала много, но всегда эти люди были заняты своей соб ственной жизнью, и поэтому на их лицах лежал отпечаток той мелочности, которой было проникнуто их собственное существование, теперь же ей повезло увидеть лица столь же великие, как велика была задача, за которую они взялись, и она впервые поняла, что же нового было и в облике ее собственного брата. А вот и он появился в воротах. Его вели два солдата и два жандарма, один из которых шел впереди, а другой — позади с револьвером в руке. Петр Петрович курил, пальто его было расстегнуто. Заметив на тротуаре сестру, он улыбнулся и в знак приветствия наклонил голову. Корреспонденты столичных и заграничных газет, которых достаточно съехалось в Очаков, в зал заседания суда допущены не были. „Я ЗНАЮ..."На полу лежала светлая полоса лунного света. Ронжин спустил с кровати ноги. Ноги казались восковыми, ноги мертвеца... Он дотянулся до халата, который висел на стуле. Плотно запахнувшись в халат, подпоясался толстым витым шнуром. Комната, которую ему отвели в Офицерском собрании, находилась в двух шагах от зала суда. Он вышел в коридор и пошел на ощупь, в темноте. Рука натолкнулась на дверь, нашарила ручку, потянула к себе... Без людей, освещенный одним лишь лунным светом, зал казался почти громадным. Опустевшие ряды были безлики, как покинутые окопы на поле брани. Ронжин медленно шел по залу, пока не достиг того места, где сидел Шмидт. Кружилась голова. Не отдавая отчета своим поступкам, Ронжин опустился на скамью подсудимых. «Господа судьи! Перед вашими беспристрастными глазами прошло дело, во главе которого был я... Не могло это дело стать совершенно ясным, так как оно явилось здесь как обрывок общего великого русского дела, самая сложность которого не позволяет нам, современникам, объять его беспристрастным взором... И этот обрывок русского дела, слабо освещенный свидетельскими показаниями, ждет теперь над собой вашего приговора...» И сейчас в зале стояла тишина, но как не похожа она была на ту жуткую звенящую тишину, которая разлилась после этих слов. И в той душераздирающей тишине властвовал только один голос, не очень громкий голос человека в морском офицерском сюртуке без погон. «Я говорил вам, господа судьи, что не должно быть в этом деле произнесено ни одного слова неправды. Только одну правду вы слышали от меня, и я знаю, вы верили мне...» Ронжин застонал. Он стонал протяжно, как стонут люди при сильной зубной боли. 16 |








