Юный Натуралист 1974-10, страница 15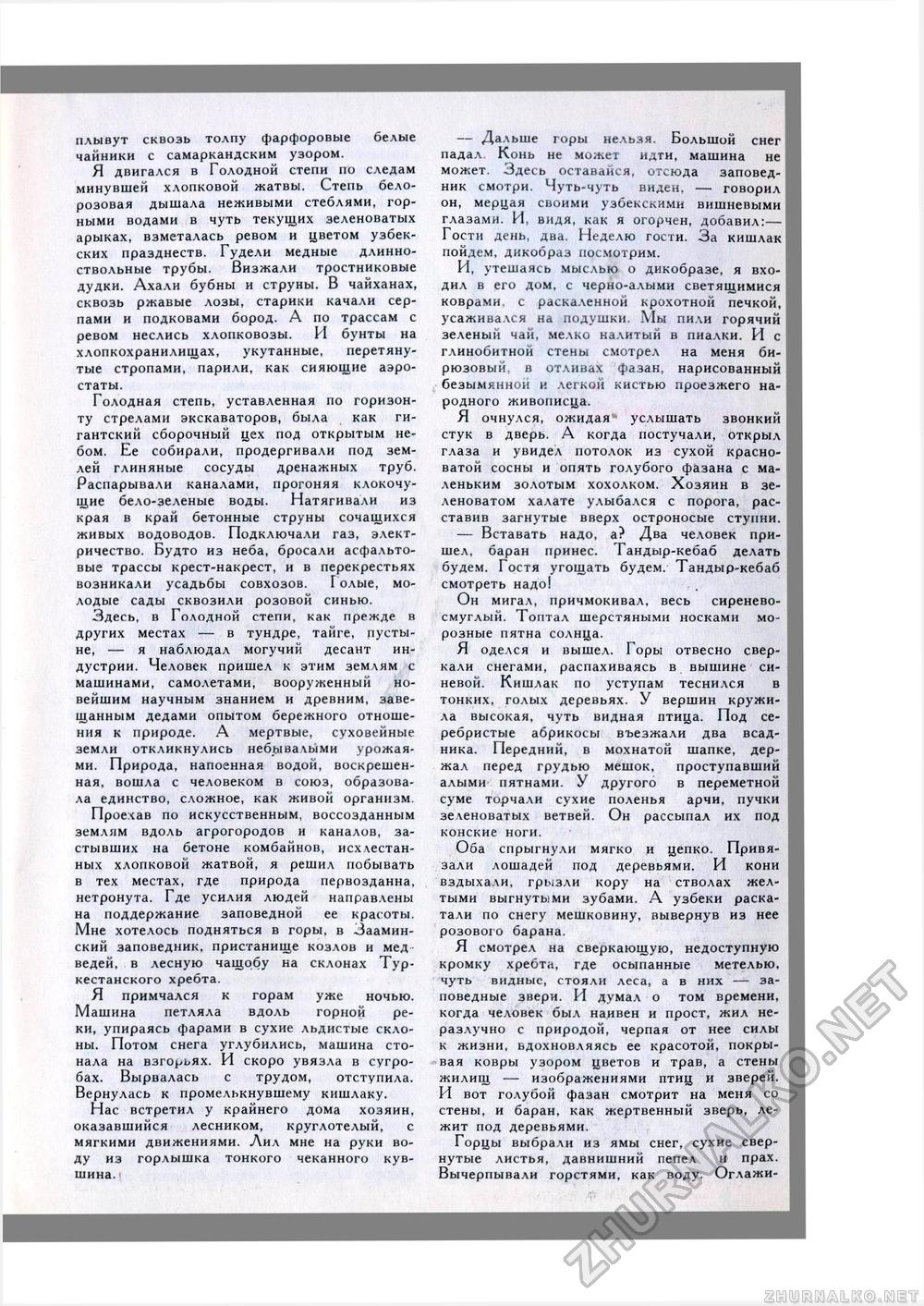
плывут сквозь толпу фарфоровые белые чайники с самаркандским узором. Я двигался в Голодной степи по следам минувшей хлопковой жатвы. Степь бело-розовая дышала неживыми стеблями, горными водами в чуть текущих зеленоватых арыках, взметалась ревом и цветом узбекских празднеств. Гудели медные длинноствольные трубы. Визжали тростниковые дудки. Ахали бубны и струны. В чайханах, сквозь ржавые лозы, старики качали серпами и подковами бород. А по трассам с ревом неслись хлопковозы. И бунты на хлопкохранилищах, укутанные, перетянутые стропами, парили, как сияющие аэростаты. Голодная степь, уставленная по горизонту стрелами экскаваторов, была как гигантский сборочный цех под открытым небом. Ее собирали, продергивали под землей глиняные сосуды дренажных труб. Распарывали каналами, прогоняя клокочущие бело-зеленые воды. Натягивали из края в край бетонные струны сочащихся живых водоводов. Подключали газ, электричество. Будто из неба, бросали асфальтовые трассы крест-накрест, и в перекрестьях возникали усадьбы совхозов. Г олые, молодые сады сквозили розовой синью. Здесь, в Голодной степи, как прежде в других местах — в тундре, тайге, пустыне, — я наблюдал могучий десант индустрии. Человек пришел к этим землям с машинами, самолетами, вооруженный новейшим научным знанием и древним, завещанным дедами опытом бережного отношения к природе. А мертвые, суховейные земли откликнулись небывалыми урожаями. Природа, напоенная водой, воскрешенная, вошла с человеком в союз, образовала единство, сложное, как живой организм Проехав по искусственным, воссозданным землям вдоль агрогородов и каналов, застывших на бетоне комбайнов, исхлестанных хлопковой жатвой, я решил побывать в тех местах, где природа первозданна, нетронута. Где усилия людей направлены на поддержание заповедной ее красоты. Мне хотелось подняться в горы, в Заамин-ский заповедник, пристанище козлов и мед ведей, в лесную чащобу на склонах Туркестанского хребта. Я примчался к горам уже ночью. Машина петляла вдоль горной реки, упираясь фарами в сухие льдистые склоны. Потом снега углубились, машина стонала на взгорьях. И скоро увязла в сугробах. Вырвалась с трудом, отступила. Вернулась к промелькнувшему кишлаку. Нас встретил у крайнего дома хозяин, оказавшийся лесником, круглотелый, с мягкими движениями. Лил мне на руки воду из горлышка тонкого чеканного кувшина. — Дальше горы нельзя. Большой снег падал Конь не может идти, машина не может. Здесь оставайся, отсюда заповедник смотри. Чуть-чуть виден. — говорил он, мерцая своими узбекскими вишневыми глазами. И, видя, как я огорчен, добавил:— Гости день, два. Неделю гости. За кишлак пойдем, дикобраз посмотрим. И, утешаясь мыслью о дикобразе, я входил в его дом, с черно-алыми светящимися коврами, с раскаленной крохотной печкой, усаживался на подушки. Мы пили горячий зеленый чай, мелко налитый в пиалки. И с глинобитной стены смотрел на меня бирюзовый. в отливах фазан, нарисованный безымянной и легкой кистью проезжего народного живописца. Я очнулся, ожидая услышать звонкий стук в дверь. А когда постучали, открыл глаза и увидел потолок из сухой красноватой сосны и опять голубого фазана с маленьким золотым хохолком. Хозяин в зеленоватом халате улыбался с порога, расставив загнутые вверх остроносые ступни. — Вставать надо, а? Два человек пришел, баран принес. Тандыр-кебаб делать будем. Гостя угощать будем. Тандыр-кебаб смотреть надо! Он мигал, причмокивал, весь сиренево-смуглый. Топтал шерстяными носками морозные пятна солнца. Я оделся и вышел. Горы отвесно сверкали снегами, распахиваясь в вышине синевой. Кишлак по уступам теснился в тонких, голых деревьях. У вершин кружила высокая, чуть видная птица. Под серебристые абрикосы въезжали два всадника. Передний, в мохнатой шапке, держал перед грудью мешок, проступавший алыми пятнами. У другого в переметной суме торчали сухие поленья арчи, пучки зеленоватых ветвей. Он рассыпал их под конские ноги. Оба спрыгнули мягко и цепко. Привязали лошадей под деревьями. И кони вздыхали, грызли кору на стволах желтыми выгнутыми зубами. А узбеки раскатали по снегу мешковину, вывернув из нее розового барана. Я смотрел на сверкающую, недоступную кромку хребта, где осыпанные метелью, чуть видные, стояли леса, а в них — заповедные звери. И думал о том времени, когда человек был наивен и прост, жил неразлучно с природой, черпая от нее силы к жизни, вдохновляясь ее красотой, покрывая ковры узором цветов и трав, а стены жилищ — изображениями птиц и зверей. И вот голубой фазан смотрит на меня со стены, и баран, как жертвенный зверь, лежит под деревьями. Горцы выбрали из ямы снег, сухие свернутые листья, давнишний пепел и прах. Вычерпывали горстями, как воду. Оглажи- |








