Пионер 1987-12, страница 7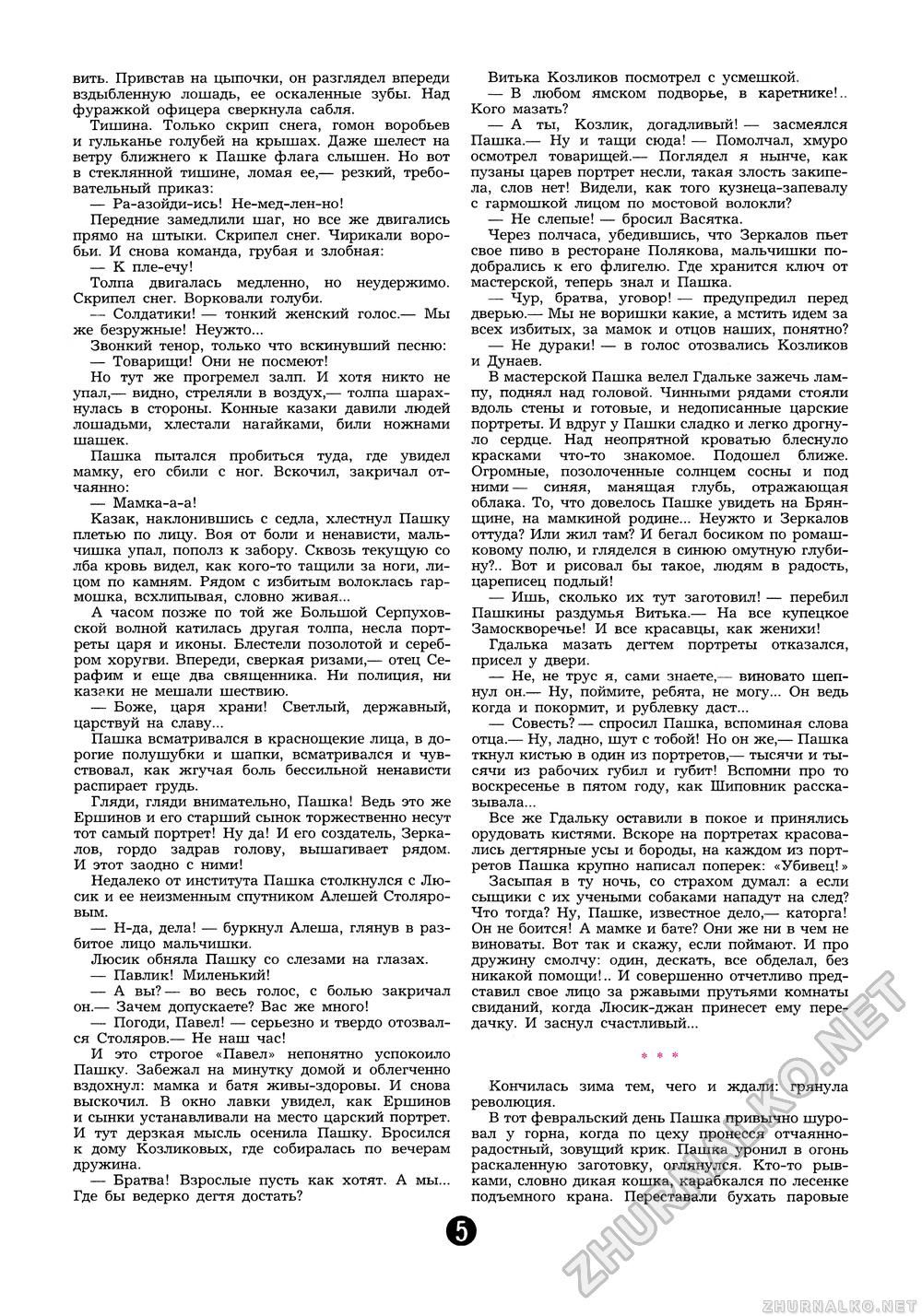
вить. Привстав на цыпочки, он разглядел впереди вздыбленную лошадь, ее оскаленные зубы. Над фуражкой офицера сверкнула сабля. Тишина. Только скрип снега, гомон воробьев и гульканье голубей на крышах. Даже шелест на ветру ближнего к Пашке флага слышен. Но вот в стеклянной тишине, ломая ее,— резкий, требовательный приказ: — Ра-азойди-ись! Не-мед-лен-но! Передние замедлили шаг, но все же двигались прямо на штыки. Скрипел снег. Чирикали воробьи. И снова команда, грубая и злобная: — К пле-ечу! Толпа двигалась медленно, но неудержимо. Скрипел снег. Ворковали голуби. — Солдатики! — тонкий женский голос.— Мы же безружные! Неужто... Звонкий тенор, только что вскинувший песню: — Товарищи! Они не посмеют! Но тут же прогремел залп. И хотя никто не упал,— видно, стреляли в воздух,— толпа шарахнулась в стороны. Конные казаки давили людей лошадьми, хлестали нагайками, били ножнами шашек. Пашка пытался пробиться туда, где увидел мамку, его сбили с ног. Вскочил, закричал отчаянно: — Мамка-а-а! Казак, наклонившись с седла, хлестнул Пашку плетью по лицу. Воя от боли и ненависти, мальчишка упал, пополз к забору. Сквозь текущую со лба кровь видел, как кого-то тащили за ноги, лицом по камням. Рядом с избитым волоклась гармошка, всхлипывая, словно живая... А часом позже по той же Большой Серпуховской волной катилась другая толпа, несла портреты царя и иконы. Блестели позолотой и серебром хоругви. Впереди, сверкая ризами,— отец Серафим и еще два священника. Ни полиция, ни казаки не мешали шествию. — Боже, царя храни! Светлый, державный, царствуй на славу... Пашка всматривался в краснощекие лица, в дорогие полушубки и шапки, всматривался и чувствовал, как жгучая боль бессильной ненависти распирает грудь. Гляди, гляди внимательно, Пашка! Ведь это же Ершинов и его старший сынок торжественно несут тот самый портрет! Ну да! И его создатель, Зерка-лов, гордо задрав голову, вышагивает рядом. И этот заодно с ними! Недалеко от института Пашка столкнулся с Люсик и ее неизменным спутником Алешей Столяровым. — Н-да, дела! — буркнул Алеша, глянув в разбитое лицо мальчишки. Люсик обняла Пашку со слезами на глазах. — Павлик! Миленький! — А вы?— во весь голос, с болью закричал он.— Зачем допускаете? Вас же много! — Погоди, Павел! — серьезно и твердо отозвался Столяров.— Не наш час! И это строгое «Павел» непонятно успокоило Пашку. Забежал на минутку домой и облегченно вздохнул: мамка и батя живы-здоровы. И снова выскочил. В окно лавки увидел, как Ершинов и сынки устанавливали на место царский портрет. И тут дерзкая мысль осенила Пашку. Бросился к дому Козликовых, где собиралась по вечерам дружина. — Братва! Взрослые пусть как хотят. А мы... Где бы ведерко дегтя достать? Витька Козликов посмотрел с усмешкой. — В любом ямском подворье, в каретнике!.. Кого мазать? — А ты, Козлик, догадливый! — засмеялся Пашка.— Ну и тащи сюда! — Помолчал, хмуро осмотрел товарищей.— Поглядел я нынче, как пузаны царев портрет несли, такая злость закипела, слов нет! Видели, как того кузнеца-запевалу с гармошкой лицом по мостовой волокли? — Не слепые! — бросил Васятка. Через полчаса, убедившись, что Зеркалов пьет свое пиво в ресторане Полякова, мальчишки подобрались к его флигелю. Где хранится ключ от мастерской, теперь знал и Пашка. —- Чур, братва, уговор! — предупредил перед дверью.— Мы не воришки какие, а мстить идем за всех избитых, за мамок и отцов наших, понятно? — Не дураки! — в голос отозвались Козликов и Дунаев. В мастерской Пашка велел Гдальке зажечь лампу, поднял над головой. Чинными рядами стояли вдоль стены и готовые, и недописанные царские портреты. И вдруг у Пашки сладко и легко дрогнуло сердце. Над неопрятной кроватью блеснуло красками что-то знакомое. Подошел ближе. Огромные, позолоченные солнцем сосны и под ними — синяя, манящая глубь, отражающая облака. То, что довелось Пашке увидеть на Брян-щине, на мамкиной родине... Неужто и Зеркалов оттуда? Или жил там? И бегал босиком по ромашковому полю, и гляделся в синюю омутную глубину?.. Вот и рисовал бы такое, людям в радость, цареписец подлый! — Ишь, сколько их тут заготовил! — перебил Пашкины раздумья Витька.— На все купецкое Замоскворечье! И все красавцы, как женихи! Гдалька мазать дегтем портреты отказался, присел у двери. — Не, не трус я, сами знаете,— виновато шепнул он.— Ну, поймите, ребята, не могу... Он ведь когда и покормит, и рублевку даст... — Совесть? — спросил Пашка, вспоминая слова отца.— Ну, ладно, шут с тобой! Но он же,— Пашка ткнул кистью в один из портретов,— тысячи и тысячи из рабочих губил и губит! Вспомни про то воскресенье в пятом году, как Шиповник рассказывала... Все же Гдальку оставили в покое и принялись орудовать кистями. Вскоре на портретах красовались дегтярные усы и бороды, на каждом из портретов Пашка крупно написал поперек: «Убивец!» Засыпая в ту ночь, со страхом думал: а если сыщики с их учеными собаками нападут на след? Что тогда? Ну, Пашке, известное дело,— каторга! Он не боится! А мамке и бате? Они же ни в чем не виноваты. Вот так и скажу, если поймают. И про дружину смолчу: один, дескать, все обделал, без никакой помощи!.. И совершенно отчетливо представил свое лицо за ржавыми прутьями комнаты свиданий, когда Люсик-джан принесет ему передачку. И заснул счастливый... Н* Кончилась зима тем, чего и ждали: грянула революция. В тот февральский день Пашка привычно шуровал у горна, когда по цеху пронесся отчаянно-радостный, зовущий крик. Пашка уронил в огонь раскаленную заготовку, оглянулся. Кто-то рывками, словно дикая кошка, карабкался по лесенке подъемного крана. Переставали бухать паровые 0 |








