Техника - молодёжи 1995-06, страница 55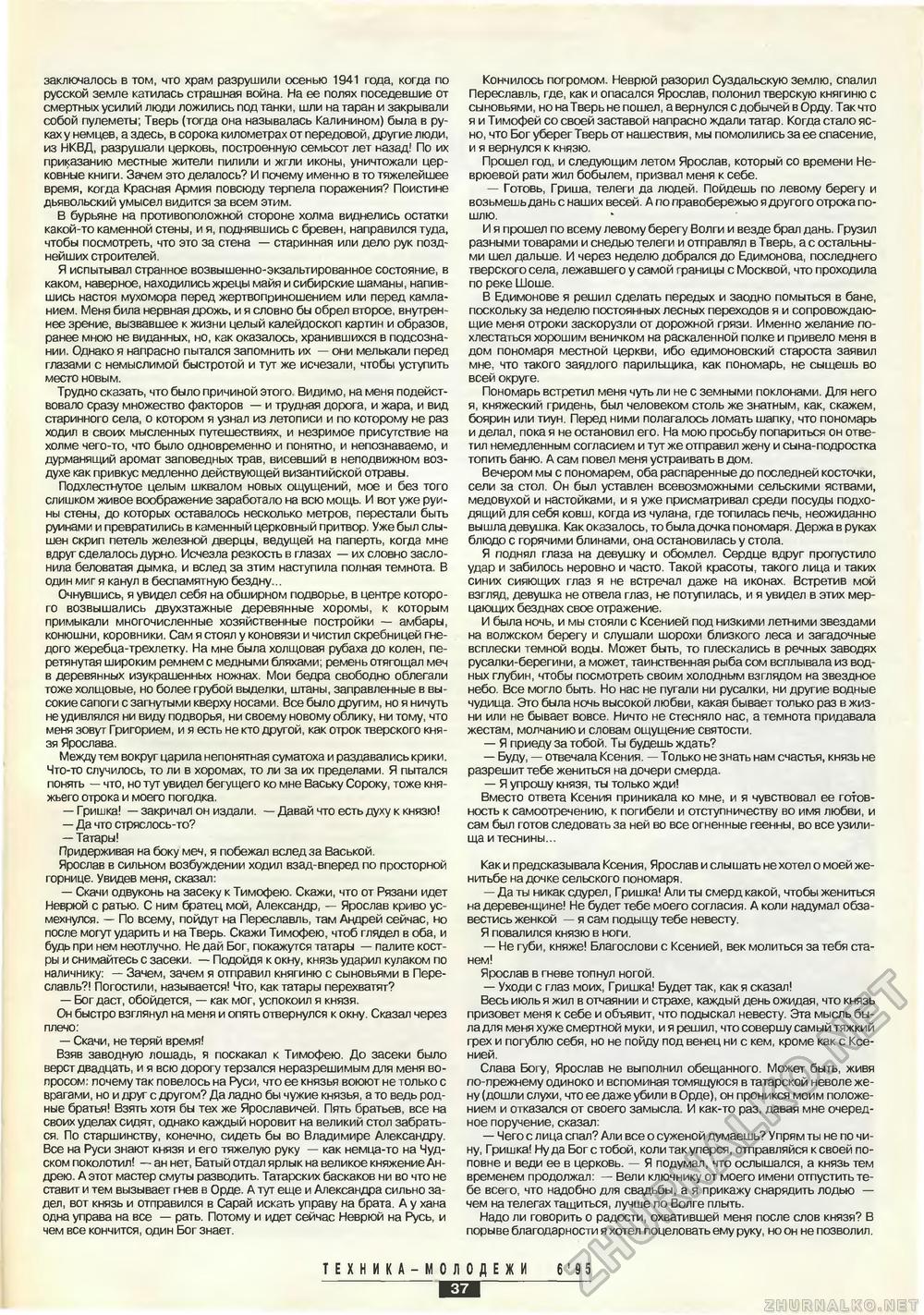
заключалось в том, что храм разрушили осенью 1941 года, когда по русской земле катилась страшная война. На ее полях поседевшие от смертных усилий люди ложились под танки, шли на таран и закрывали собой пулеметы; Тверь (тогда она называлась Калинином) была в руках у немцев, а здесь, в сорока километрах от передовой, другие люди, из НКВД, разрушали церковь, построенную семьсот лет назад! По их приказанию местные жители пилили и жгли иконы, уничтожали церковные книги. Зачем это делалось? И почему именно в то тяжелейшее время, когда Красная Армия повсюду терпела поражения? Поистине дьявольский умысел видится за всем этим. В бурьяне на противоположной стороне холма виднелись остатки какой-то каменной стены, и я, поднявшись с бревен, направился туда, чтобы посмотреть, что это за стена — старинная или дело рук позднейших строителей. Я испытывал странное возвышенно-экзальтированное состояние, в каком, наверное, находились жрецы майя и сибирские шаманы, напившись настоя мухомора перед жертвоприношением или перед камланием. Меня била нервная дрожь, и я словно бы обрел второе, внутреннее зрение, вызвавшее к жизни целый калейдоскоп картин и образов, ранее мною не виданных, но, как оказалось, хранившихся в подсознании. Однако я напрасно пытался запомнить их — они мелькали перед глазами с немыслимой быстротой и тут же исчезали, чтобы уступить место новым. Трудно сказать, что было причиной этого Видимо, на меня подействовало сразу множество факторов — и трудная дорога, и жара, и вид старинного села, о котором я узнал из летописи и по которому не раз ходил в своих мысленных путешествиях, и незримое присутствие на холме чего-то, что было одновременно и понятно, и непознаваемо, и дурманящий аромат заповедных трав, висевший в неподвижном воздухе как привкус медленно действующей византийской отравы. Подхлестнутое целым шквалом новых ощущений, мое и без того слишком живое воображение заработало на всю мощь. И вот уже руины стены, до которых оставалось несколько метров, перестали быть руинами и превратились в каменный церковный притвор. Уже был слышен скрип петель железной дверцы, ведущей на паперть, когда мне вдруг сделалось дурно. Исчезла резкость в глазах — их словно заслонила беловатая дымка, и вслед за этим наступила полная темнота. В один миг я канул в беспамятную бездну... Очнувшись, я увидел себя на обширном подворье, в центре которого возвышались двухэтажные деревянные хоромы, к которым примыкали многочисленные хозяйственные постройки — амбары, конюшни, коровники. Сам я стоял у коновязи и чистил скребницей гнедого жеребца-трехлетку. На мне была холщовая рубаха до колен, пе ретянутая широким ремнем с медными бляхами; ремень отягощал меч в деревянных изукрашенных ножнах. Мои бедра свободно облегали тоже холщовые, но более грубой выделки, штаны, заправленные в высокие сапоги с загнутыми кверху носами. Все было другим, но я ничуть не удивлялся ни виду подворья, ни своему новому облику, ни тому, что меня зовут Григорием, и я есть не кто другой, как отрок тверского князя Ярослава. Между тем вокруг царила непонятная суматоха и раздавались крики. Что-то случилось, то ли в хоромах, то ли за их пределами. Я пытался понять — что, но тут увидел бегущего ко мне Ваську Сороку, тоже княжьего отрока и моего погодка. — Гришка! — закричал он издали. —Давай что есть духу к князю! — Да что стряслось-то? — Татары! Придерживая на боку меч, я побежал вслед за Васькой. Ярослав в сильном возбуждении ходил взад-вперед по просторной горнице. Увидев меня, сказал: — Скачи одвуконь на засеку к Тимофею. Скажи, что от Рязани идет Неврюй с ратью. С ним братец мой, Александр, — Ярослав криво усмехнулся. — По всему, пойдут на Переславль, там Андрей сейчас, но после могут ударить и на Тверь. Скажи Тимофею, чтоб глядел в оба, и будь при нем неотлучно. Не дай Бог, покажутся татары — палите костры и снимайтесь с засеки. — Подойдя к окну, князь ударил кулаком по наличнику: — Зачем, зачем я отправил княгиню с сыновьями в Переславль?! Погостили, называется! Что, как татары перехватят? — Бог даст, обойдется, — как мог, успокоил я князя. Он быстро взглянул на меня и опять отвернулся к окну. Сказал через плечо: — Скачи, не теряй время! Взяв заводную лошадь, я поскакал к Тимофею. До засеки было верст двадцать, и я всю дорогу терзался неразрешимым для меня вопросом: почему так повелось на Руси, что ее князья воюют не только с врагами, но и друг с другом? Да ладно бы чужие князья, а то ведь родные братья! Взять хотя бы тех же Ярославичей. Пять братьев, все на своих уделах сидят, однако каждый норовит на великий стол забраться. По старшинству, конечно, сидеть бы во Владимире Александру. Все на Руси знают князя и его тяжелую руку — как немца-то на Чудском поколотил! — ан нет, Батый отдал ярлык на великое княжение Андрею. А этот мастер смуты разводить. Татарских баскаков ни во что не ставит и тем вызывает гнев в Орде. А тут еще и Александра сильно задел, вот князь и отправился в Сарай искать управу на брата. А у хана одна управа на все — рать. Потому и идет сейчас Неврюй на Русь, и чем все кончится, один Бог знает. Кончилось погромом. Неврюй разорил Суздальскую землю, спалил Переславль, где, как и опасался Ярослав, полонил тверскую княгиню с сыновьями, но на Тверь не пошел, а вернулся с добычей в Орду. Так что я и Тимофей со своей заставой напрасно ждали татар. Когда стало ясно, что Бог уберег Тверь от нашествия, мы помолились за ее спасение, и я вернулся к князю. Прошел год, и следующим летом Ярослав, который со времени Не-врюевой рати жил бобылем, призвал меня к себе. — Готовь, Гриша, телеги да людей. Пойдешь по левому берегу и возьмешь дань с наших весей. А по правобережью я другого отрока пошлю. И я прошел по всему левому берегу Волги и везде брал дань. Грузил разными товарами и снедью телеги и отправлял в Тверь, а с остальными шел дальше. И через неделю добрался до Едимонова, последнего тверского села, лежавшего у самой границы с Москвой, что проходила по реке Шоше. В Едимонове я решил сделать передых и заодно помыться в бане, поскольку за неделю постоянных лесных переходов я и сопровождающие меня отроки заскорузли от дорожной грязи. Именно желание похлестаться хорошим веничком на раскаленной полке и привело меня в дом пономаря местной церкви, ибо едимоновский староста заявил мне, что такого заядлого парильщика, как пономарь, не сыщешь во всей округе. Пономарь встретил меня чуть ли не с земными поклонами. Для него я, княжеский гридень, был человеком столь же знатным, как, скажем, боярин или тиун. Перед ними полагалось ломать шапку, что пономарь и делал, пока я не остановил его. На мою просьбу попариться он ответил немедленным согласием и тут же отправил жену и сына-подростка топить баню. А сам повел меня устраивать в дом. Вечером мы с пономарем, оба распаренные до последней косточки, сели за стол. Он был уставлен всевозможными сельскими яствами, медовухой и настойками, и я уже присматривал среди посуды подходящий для себя ковш, когда из чулана, где топилась печь, неожиданно вышла девушка. Как оказалось, то была дочка пономаря. Держа в руках блкздо с горячими блинами, она остановилась у стола. Я поднял глаза на девушку и обомлел. Сердце вдруг пропустило удар и забилось неровно и часто. Такой красоты, такого лица и таких синих сияющих глаз я не встречал даже на иконах. Встретив мой взгляд, девушка не отвела глаз, не потупилась, и я увидел в этих мерцающих безднах свое отражение. И была ночь, и мы стояли с Ксенией под низкими летними звездами на волжском берегу и слушали шорохи близкого леса и загадочные всплески темной воды. Может быть, то плескались в речных заводях русалки-берегини, а может, таинственная рыба сом всплывала из водных глубин, чтобы посмотреть своим холодным взглядом на звездное небо. Все могло быть. Но нас не пугали ни русалки, ни другие водные чудища. Это была ночь высокой любви, какая бывает только раз в жизни или не бывает вовсе. Ничто не стесняло нас, а темнота придавала жестам, молчанию и словам ощущение святости. — Я приеду за тобой. Ты будешь ждать? — Буду, — отвечала Ксения. — Только не знать нам счастья, князь не разрешит тебе жениться на дочери смерда. — Я упрошу князя, ты только жди! Вместо ответа Ксения приникала ко мне, и я чувствовал ее готовность к самоотречению, к погибели и отступничеству во имя любви, и сам был готов следовать за ней во все огненные геенны, во все узилища и теснины... Как и предсказывала Ксения, Ярослав и слышать не хотел о моей женитьбе на дочке сельского пономаря. — Да ты никак сдурел, Гришка! Али ты смерд какой, чтобы жениться на деревенщине! Не будет тебе моего согласия. А коли надумал обзавестись женкой — я сам подыщу тебе невесту. Я повалился князю в ноги. — Не губи, княже! Благослови с Ксенией, век молиться за тебя станем! Ярослав в гневе топнул ногой. — Уходи с глаз моих, Гришка! Будет так, как я сказал! Весь июль я жил в отчаянии и страхе, каждый день ожидая, что князь призовет меня к себе и объявит, что подыскал невесту. Эта мысль была для меня хуже смертной муки, и я решил, что совершу самый тяжкий грех и погублю себя, но не пойду под венец ни с кем, кроме как с Ксенией. Слава Богу, Ярослав не выполнил обещанного. Может быть, живя по прежнему одиноко и вспоминая томящуюся в татарской неволе жену (дошли слухи, что ее даже убили в Орде), он проникся моим положением и отказался от своего замысла. И как-то раз, давая мне очередное поручение, сказал: — Чего с лица спал? Али все о суженой думаешь? Упрям ты не по чину, Гришка! Нуда Бог с тобой, коли так уперся, отправляйся к своей поповне и веди ее в церковь. — Я подумал, что ослышался, а князь тем временем продолжал: — Вели ключнику от моего имени отпустить те бе всего, что надобно для свадьбы, а я прикажу снарядить лодью — чем на телегах тащиться, лучше по Волге плыть. Надо ли говорить о радости, охватившей меня после слов князя? В порыве благодарности я хотел поцеловать ему руку, но он не позволил. ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ 6 ' 9 5 37 |








