Пионер 1989-04, страница 18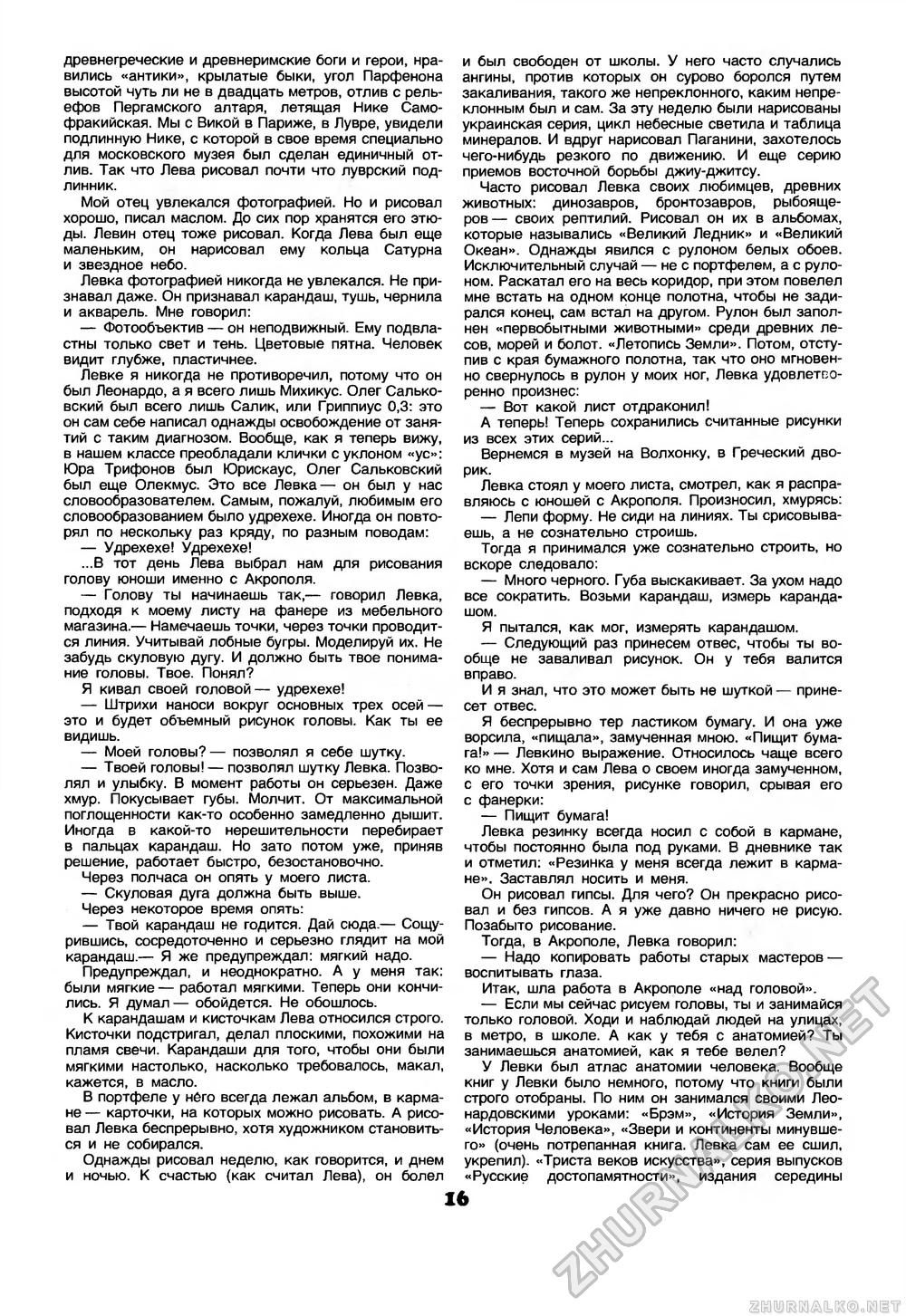
древнегреческие и древнеримские боги и герои, нравились «антики», крылатые быки, угол Парфенона высотой чуть ли не в двадцать метров, отлив с рельефов Пергамского алтаря, летящая Нике Самофракийская. Мы с Викой в Париже, в Лувре, увидели подлинную Нике, с которой в свое время специально для московского музея был сделан единичный отлив. Так что Лева рисовал почти что луврский подлинник. Мой отец увлекался фотографией. Но и рисовал хорошо, писал маслом. До сих пор хранятся его этюды. Левин отец тоже рисовал. Когда Лева был еще маленьким, он нарисовал ему кольца Сатурна и звездное небо. Левка фотографией никогда не увлекался. Не признавал даже. Он признавал карандаш, тушь, чернила и акварель. Мне говорил: — Фотообъектив — он неподвижный. Ему подвластны только свет и тень. Цветовые пятна. Человек видит глубже, пластичнее. Левке я никогда не противоречил, потому что он был Леонардо, а я всего лишь Михикус. Олег Салько-вский был всего лишь Салик, или Гриппиус 0,3: это он сам себе написал однажды освобождение от занятий с таким диагнозом. Вообще, как я теперь вижу, в нашем классе преобладали клички с уклоном «ус»: Юра Трифонов был Юрискаус, Олег Сальковский был еще Олекмус. Это все Левка— он был у нас словообразователем. Самым, пожалуй, любимым его словообразованием было удрехехе. Иногда он повторял по нескольку раз кряду, по разным поводам: — Удрехехе! Удрехехе! ...В тот день Лева выбрал нам для рисования голову юноши именно с Акрополя. — Голову ты начинаешь так,— говорил Левка, подходя к моему листу на фанере из мебельного магазина.— Намечаешь точки, через точки проводится линия. Учитывай лобные бугры. Моделируй их. Не забудь скуловую дугу. И должно быть твое понимание головы. Твое. Понял? Я кивал своей головой— удрехехе! — Штрихи наноси вокруг основных трех осей — это и будет объемный рисунок головы. Как ты ее видишь. — Моей головы?— позволял я себе шутку. — Твоей головы! — позволял шутку Левка. Позволял и улыбку. В момент работы он серьезен. Даже хмур. Покусывает губы. Молчит. От максимальной поглощенности как-то особенно замедленно дышит. Иногда в какой-то нерешительности перебирает в пальцах карандаш. Но зато потом уже, приняв решение, работает быстро, безостановочно. Через полчаса он опять у моего листа. — Скуловая дуга должна быть выше. Через некоторое время опять: — Твой карандаш не годится. Дай сюда.— Сощурившись, сосредоточенно и серьезно глядит на мой карандаш.— Я же предупреждал: мягкий надо. Предупреждал, и неоднократно. А у меня так: были мягкие — работал мягкими. Теперь они кончились. Я думал — обойдется. Не обошлось. К карандашам и кисточкам Лева относился строго. Кисточки подстригал, делал плоскими, похожими на пламя свечи. Карандаши для того, чтобы они были мягкими настолько, насколько требовалось, макал, кажется, в масло. В портфеле у него всегда лежал альбом, в кармане — карточки, на которых можно рисовать. А рисовал Левка беспрерывно, хотя художником становиться и не собирался. Однажды рисовал неделю, как говорится, и днем и ночью. К счастью (как считал Лева), он болел и был свободен от школы. У него часто случались ангины, против которых он сурово боролся путем закаливания, такого же непреклонного, каким непреклонным был и сам. За эту неделю были нарисованы украинская серия, цикл небесные светила и таблица минералов. И вдруг нарисовал Паганини, захотелось чего-нибудь резкого по движению. И еще серию приемов восточной борьбы джиу-джитсу. Часто рисовал Левка своих любимцев, древних животных: динозавров, бронтозавров, рыбоящеров— своих рептилий. Рисовал он их в альбомах, которые назывались «Великий Ледник» и «Великий Океан». Однажды явился с рулоном белых обоев. Исключительный случай — не с портфелем, а с рулоном. Раскатал его на весь коридор, при этом повелел мне встать на одном конце полотна, чтобы не задирался конец, сам встал на другом. Рулон был заполнен «первобытными животными» среди древних лесов, морей и болот. «Летопись Земли». Потом, отступив с края бумажного полотна, так что оно мгновенно свернулось в рулон у моих ног, Левка удовлетворенно произнес: — Вот какой лист отдраконил! А теперь! Теперь сохранились считанные рисунки из всех этих серий... Вернемся в музей на Волхонку, в Греческий дворик. Левка стоял у моего листа, смотрел, как я расправляюсь с юношей с Акрополя. Произносил, хмурясь: — Лепи форму. Не сиди на линиях. Ты срисовываешь, а не сознательно строишь. Тогда я принимался уже сознательно строить, но вскоре следовало: — Много черного. Губа выскакивает. За ухом надо все сократить. Возьми карандаш, измерь карандашом. Я пытался, как мог, измерять карандашом. — Следующий раз принесем отвес, чтобы ты вообще не заваливал рисунок. Он у тебя валится вправо. И я знал, что это может быть не шуткой — принесет отвес. Я беспрерывно тер ластиком бумагу. И она уже ворсила, «пищала», замученная мною. «Пищит бумага!» — Левкино выражение. Относилось чаще всего ко мне. Хотя и сам Лева о своем иногда замученном, с его точки зрения, рисунке говорил, срывая его с фанерки: — Пищит бумага! Левка резинку всегда носил с собой в кармане, чтобы постоянно была под руками. В дневнике так и отметил: «Резинка у меня всегда лежит в кармане». Заставлял носить и меня. Он рисовал гипсы. Для чего? Он прекрасно рисовал и без гипсов. А я уже давно ничего не рисую. Позабыто рисование. Тогда, в Акрополе, Левка говорил: — Надо копировать работы старых мастеров — воспитывать глаза. Итак, шла работа в Акрополе «над головой». — Если мы сейчас рисуем головы, ты и занимайся только головой. Ходи и наблюдай людей на улицах, в метро, в школе. А как у тебя с анатомией? Ты занимаешься анатомией, как я тебе велел? У Левки был атлас анатомии человека. Вообще книг у Левки было немного, потому что книги были строго отобраны. По ним он занимался своими Лео-нардовскими уроками: «Брэм», «История Земли», «История Человека», «Звери и континенты минувшего» (очень потрепанная книга. Левка сам ее сшил, укрепил). «Триста веков искусства», серия выпусков «Русские достопамятности», издания середины 16 |








