Пионер 1989-08, страница 17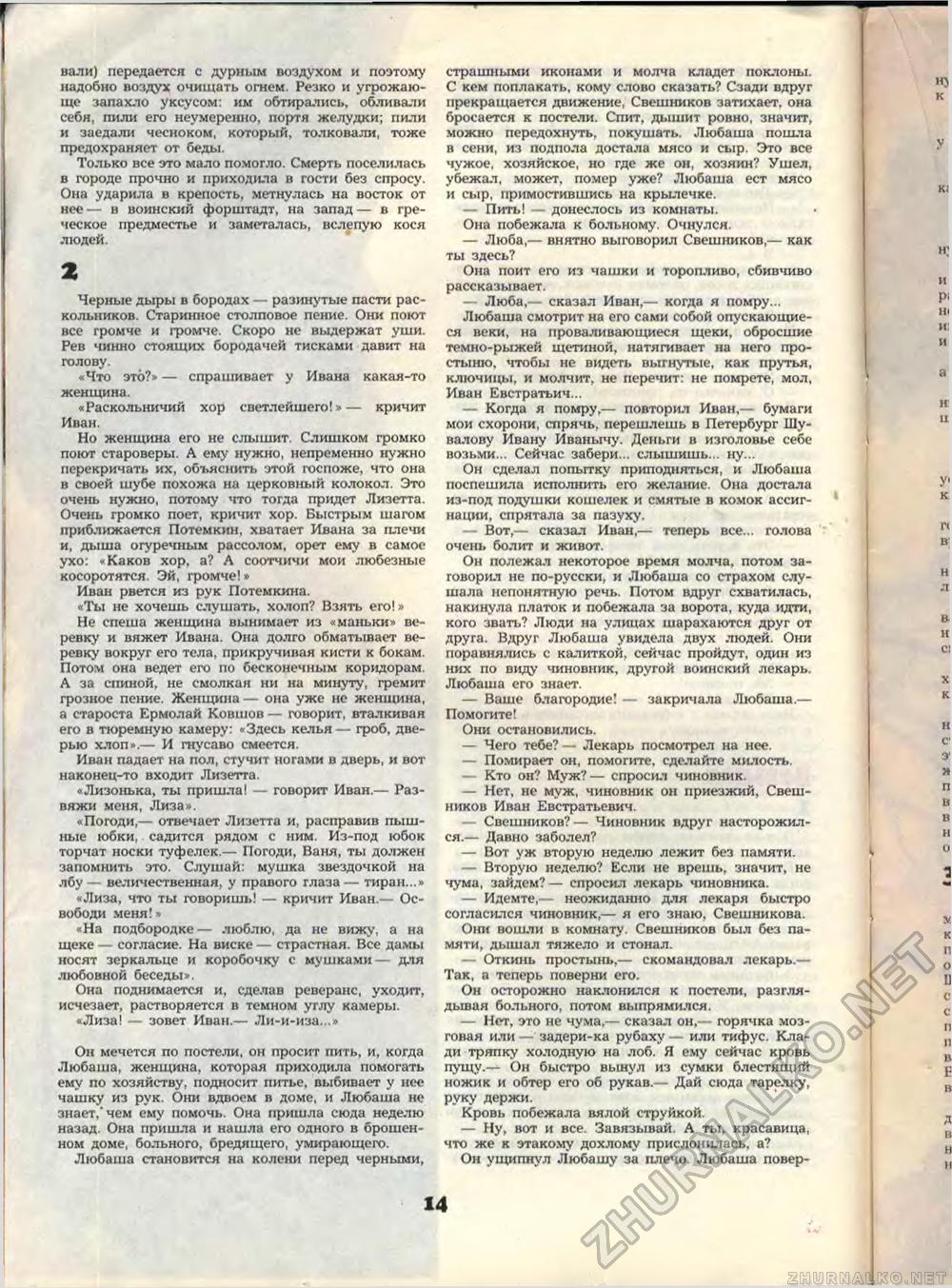
вали) передается с дурным воздухом и поэтому надобно воздух очищать огнем. Резко и угрожающе запахло уксусом: им обтирались, обливали себя, пили его неумеренно, портя желудки; пили и заедали чесноком, который, толковали, тоже предохраняет от беды. Только все это мало помогло. Смерть поселилась в городе прочно и приходила в гости без спросу. Она ударила в крепость, метнулась на восток от нее — в воинский форштадт, на запад — в греческое предместье и заметалась, вслепую кося людей. 2 Черные дыры в бородах разинутые пасти раскольников. Старинное столповое пение. Они поют все громче и громче. Скоро не выдержат уши. Рев чинно стоящих бородачей тисками давит на голову. «Что это?»— спрашивает у Ивана какая-то женщина. «Раскольничий хор светлейшего!»— кричит Иван. Но женщина его не слышит. Слишком громко поют староверы. А ему нужно, непременно нужно перекричать их, объяснить этой госпоже, что она в своей шубе похожа на церковный колокол. Это очень нужно, потому что тогда придет Лизетта. Очень громко поет, кричит хор. Быстрым шагом приближается Потемкин, хватает Ивана за плечи и, дыша огуречным рассолом, орет ему в самое ухо: «Каков хор, а? А соотчичи мои любезные косоротятся. Эй, громче!» Иван рвется из рук Потемкина. «Ты не хочешь слушать, холоп? Взять его!» Не спеша женщина вынимает из «маньки» веревку и вяжет Ивана. Она долго обматывает веревку вокруг его тела, прикручивая кисти к бокам. Потом она ведет его по бесконечным коридорам. А за спиной, не смолкая ни на минуту, гремит грозное пение. Женщина— она уже не женщина, а староста Ермолай Ковшов — говорит, вталкивая его в тюремную камеру: «Здесь келья — гроб, дверью хлоп».— И гнусаво смеется. Иван падает на пол, стучит ногами в дверь, и вот наконец-то входит Лизетта. «Лизонька, ты пришла! — говорит Иван.— Развяжи меня, Лиза». «Погоди,— отвечает Лизетта и, расправив пышные юбки, садится рядом с ним. Из-под юбок торчат носки туфелек.— Погоди, Ваня, ты должен запомнить это. Слушай: мушка звездочкой на лбу — величественная, у правого глаза— тиран...» «Лиза, что ты говоришь! — кричит Иван. Освободи меня!» «На подбородке— люблю, да не вижу, а на щеке — согласие. На виске — страстная. Все дамы носят зеркальце и коробочку с мушками— для любовной беседы». Она поднимается и, сделав реверанс, уходит, исчезает, растворяется в темном углу камеры. «Лиза! — зовет Иван.— Ли-и-иза...» Он мечется по постели, он просит пить, и, когда Любаша, женщина, которая приходила помогать ему по хозяйству, подносит питье, выбивает у нее чашку из рук. Они вдвоем в доме, и Любаша не знает,'чем ему помочь. Она пришла сюда неделю назад. Она пришла и нашла его одного в брошенном доме, больного, бредящего, умирающего. Любаша становится на колени перед черными, страшными иконами и молча кладет поклоны. С кем поплакать, кому слово сказать? Сзади вдруг прекращается движение, Свешников затихает, она бросается к постели. Спит, дышит ровно, значит, можно передохнуть, покушать. Любаша пошла в сени, из подпола достала мясо и сыр. Это все чужое, хозяйское, но где же он, хозяин? Ушел, убежал, может, помер уже? Любаша ест мясо и сыр, примостившись на крылечке. — - Пить! — донеслось из комнаты. Она побежала к больному. Очнулся. — .Люба,— внятно выговорил Свешников,— как ты здесь? Она поит его из чашки и торопливо, сбивчиво рассказывает. — Люба,— сказал Иван,— когда я помру... Любаша смотрит на его сами собой опускающиеся веки, на проваливающиеся щеки, обросшие темно-рыжей щетиной, натягивает на него простыню, чтобы не видеть выгнутые, как прутья, ключицы, и молчит, не перечит: не помрете, мол, Иван Евстратьич... — Когда я помру,— повторил Иван,— бумаги мои схорони, спрячь, перешлешь в Петербург Шувалову Ивану Иванычу. Деньги в изголовье себе возьми... Сейчас забери... слышишь... ну... Он сделал попытку приподняться, и Любаша поспешила исполнить его желание. Она достала из-под подушки кошелек и смятые в комок ассигнации, спрятала за пазуху. — Вот,— сказал Иван,— теперь все... голова очень болит и живот. Он полежал некоторое время молча, потом заговорил не по-русски, и Любаша со страхом слушала непонятную речь. Потом вдруг схватилась, накинула платок и побежала за ворота, куда идти, кого звать? Люди на улицах шарахаются друг от друга. Вдруг Любаша увидела двух людей. Они поравнялись с калиткой, сейчас пройдут, один из них по виду чиновник, другой воинский лекарь. Любаша его знает. — Ваше благородие! — закричала Любаша.— Помогите! Они остановились. — Чего тебе? — Лекарь посмотрел на нее. — Помирает он, помогите, сделайте милость. Кто он? Муж?— спросил чиновник. — Нет, не муж, чиновник он приезжий, Свешников Иван Евстратьевич. — Свешшжов?— Чиновник вдруг насторожился.— Давно заболел? — Вот уж вторую неделю лежит без памяти. — Вторую неделю? Если не врешь, значит, не чума, зайдем? — спросил лекарь чиновника. — Идемте, неожиданно для лекаря быстро согласился чиновник,— я его знаю, Свешникова. Они вошли в комнату. Свешников был без памяти, дышал тяжело и стонал. — Откинь простынь,— скомандовал лекарь.— Так, а теперь поверни его. Он осторожно наклонился к постели, разглядывая больного, потом выпрямился. — Нет, это не чума,— сказал он, горячка мозговая или — задери-ка рубаху — или тифус. Клади тряпку холодную на лоб. Я ему сейчас кровь пущу.— Он быстро вынул ИЗ сумки блестящий ножик и обтер его об рукав. - Дай сюда тарелку, руку держи. Кровь побежала вялой струйкой. — Ну, вот и все. Завязывай. А ты, красавица, что же к этакому дохлому прислонилась, а? Он ущипнул Любашу за плечо. Любаша повер 14 |








