Вокруг света 1969-10, страница 61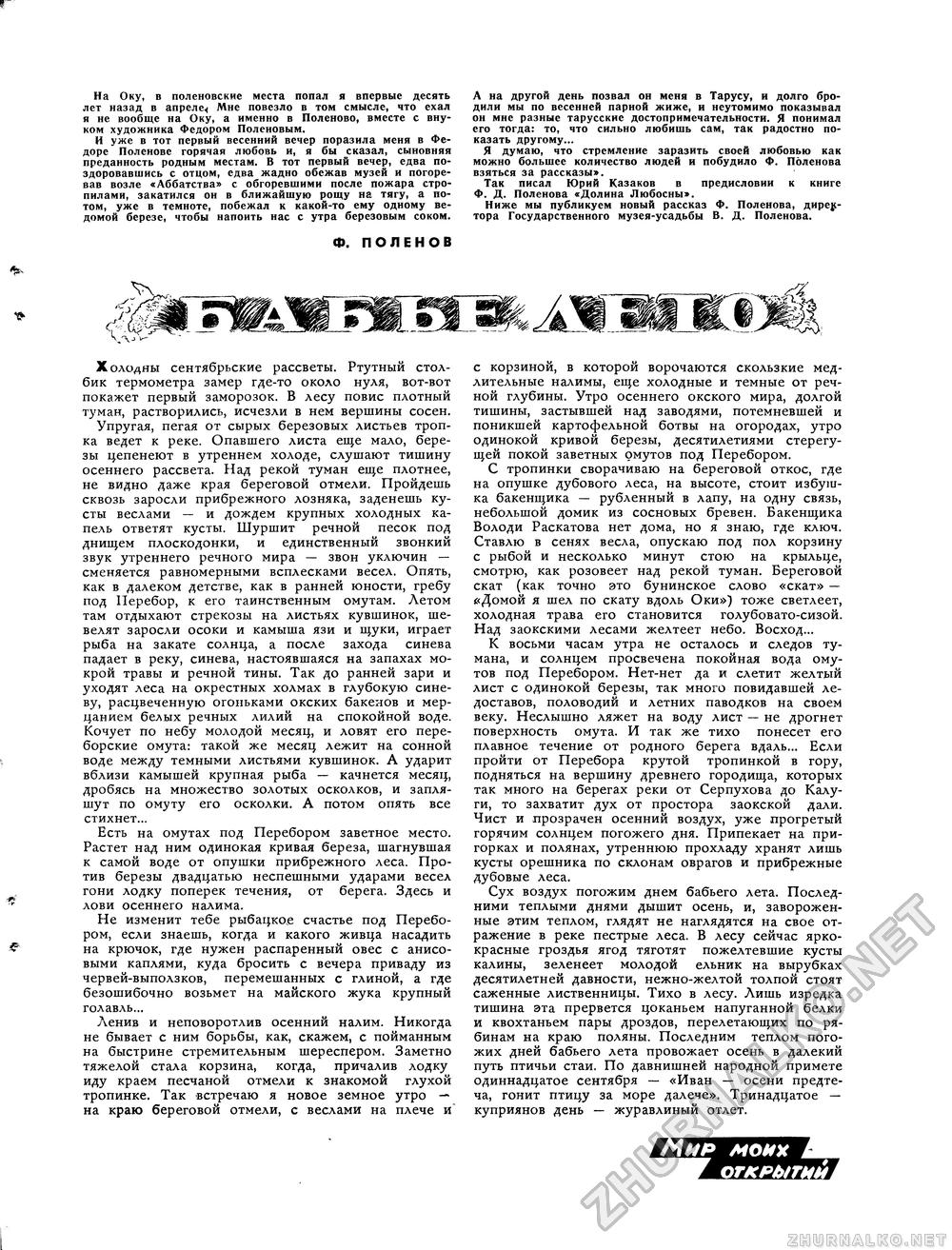
щ На Оку, в поленовские места попал я впервые десять лет назад в апреле^ Мне повезло в том смысле, что ехал я не вообще на Оку, а именно в Поленово, вместе с внуком художника Федором Поленовым. И уже в тот первый весенний вечер поразила меня в Федоре Поленове горячая любовь и, я бы сказал, сыновняя преданность родным местам. В тот первый вечер, едва поздоровавшись с отцом, едва жадно обежав музей и погоревав возле «Аббатства» с обгоревшими после пожара стропилами, закатился он в ближайшую рощу на тягу, а потом, уже в темноте, побежал к какой-то ему одному ведомой березе, чтобы напоить нас с утра березовым соком. Ф. ПОЛЕНОВ А на другой день позвал он меня в Тарусу, и долго бродили мы по весенней парной жиже, и неутомимо показывал он мне разные тарусские достопримечательности. Я понимал его тогда: то, что сильно любишь сам, так радостно показать другому... Я думаю, что стремление заразить своей любовью как можно большее количество людей и побудило Ф. Поленова взяться за рассказы». Так писал Юрий Казаков в предисловии к книге Ф. Д. Поленова «Долина Любосны». Ниже мы публикуем новый рассказ Ф. Поленова, директора Государственного музея-усадьбы В. Д. Поленова. Холодны сентябрьские рассветы. Ртутный столбик термометра замер где-то около нуля, вот-вот покажет первый заморозок. В лесу повис плотный туман, растворились, исчезли в нем вершины сосен. Упругая, пегая от сырых березовых листьев тропка ведет к реке. Опавшего листа еще мало, березы цепенеют в утреннем холоде, слушают тишину осеннего рассвета. Над рекой туман еще плотнее, не видно даже края береговой отмели. Пройдешь сквозь заросли прибрежного лозняка, заденешь кусты веслами — и дождем крупных холодных капель ответят кусты. Шуршит речной песок под днищем плоскодонки, и единственный звонкий звук утреннего речного мира — звон уключин — сменяется равномерными всплесками весел. Опять, как в далеком детстве, как в ранней юности, гребу под Перебор, к его таинственным омутам. Летом там отдыхают стрекозы на листьях кувшинок, шевелят заросли осоки и камыша язи и щуки, играет рыба на закате солнца, а после захода синева падает в реку, синева, настоявшаяся на запахах мокрой травы и речной тины. Так до ранней зари и уходят леса на окрестных холмах в глубокую синеву, расцвеченную огоньками окских бакенов и мерцанием белых речных лилий на спокойной воде. Кочует по небу молодой месяц, и ловят его пере-борские омута: такой же месяц лежит на сонной воде между темными листьями кувшинок. А ударит вблизи камышей крупная рыба — качнется месяц, дробясь на множество золотых осколков, и запляшут по омуту его осколки. А потом опять все стихнет... Есть на омутах под Перебором заветное место. Растет над ним одинокая кривая береза, шагнувшая к самой воде от опушки прибрежного леса. Против березы двадцатью неспешными ударами весел гони лодку поперек течения, от берега. Здесь и лови осеннего налима. Не изменит тебе рыбацкое счастье под Перебором, если знаешь, когда и какого живца насадить на крючок, где нужен распаренный овес с анисовыми каплями, куда бросить с вечера приваду из червей-выползков, перемешанных с глиной, а где безошибочно возьмет на майского жука крупный голавль... Ленив и неповоротлив осенний налим. Никогда не бывает с ним борьбы, как, скажем, с пойманным на быстрине стремительным шереспером. Заметно тяжелой стала корзина, когда, причалив лодку иду краем песчаной отмели к знакомой глухой тропинке. Так встречаю я новое земное утро — на краю береговой отмели, с веслами на плече и с корзинои, в которой ворочаются скользкие медлительные налимы, еще холодные и темные от речной глубины. Утро осеннего окского мира, долгой тишины, застывшей над заводями, потемневшей и поникшей картофельной ботвы на огородах, утро одинокой кривой березы, десятилетиями стерегущей покой заветных омутов под Перебором. С тропинки сворачиваю на береговой откос, где на опушке дубового леса, на высоте, стоит избушка бакенщика — рубленный в лапу, на одну связь, небольшой домик из сосновых бревен. Бакенщика Володи Раскатова нет дома, но я знаю, где ключ. Ставлю в сенях весла, опускаю под пол корзину с рыбой и несколько минут стою на крыльце, смотрю, как розовеет над рекой туман. Береговой скат (как точно это бунинское слово «скат» — «Домой я шел по скату вдоль Оки») тоже светлеет, холодная трава его становится голубовато-сизой. Над заокскими лесами желтеет небо. Восход... К восьми часам утра не осталось и следов тумана, и солнцем просвечена покойная вода омутов под Перебором. Нет-нет да и слетит желтый лист с одинокой березы, так много повидавшей ледоставов, половодий и летних паводков на своем веку. Неслышно ляжет на воду лист — не дрогнет поверхность омута. И так же тихо понесет его плавное течение от родного берега вдаль... Если пройти от Перебора крутой тропинкой в гору, подняться на вершину древнего городища, которых так много на берегах реки от Серпухова до Калуги, то захватит дух от простора заокской дали. Чист и прозрачен осенний воздух, уже прогретый горячим солнцем погожего дня. Припекает на пригорках и полянах, утреннюю прохладу хранят лишь кусты орешника по склонам оврагов и прибрежные дубовые леса. Сух воздух погожим днем бабьего лета. Последними теплыми днями дышит осень, и, завороженные этим теплом, глядят не наглядятся на свое отражение в реке пестрые леса. В лесу сейчас ярко-красные гроздья ягод тяготят пожелтевшие кусты калины, зеленеет молодой ельник на вырубках десятилетней давности, нежно-желтой толпой стоят саженные лиственницы. Тихо в лесу. Лишь изредка тишина эта прервется цоканьем напуганной белки и квохтаньем пары дроздов, перелетающих по рябинам на краю поляны. Последним теплом погожих дней бабьего лета провожает осень в далекий путь птичьи стаи. По давнишней народной примете одиннадцатое сентября — «Иван — осени предтеча, гонит птицу за море далече». Тринадцатое — Куприянов день — журавлиный отлет. iZi ИР моих г ОТКРЫТИИ J [ |








